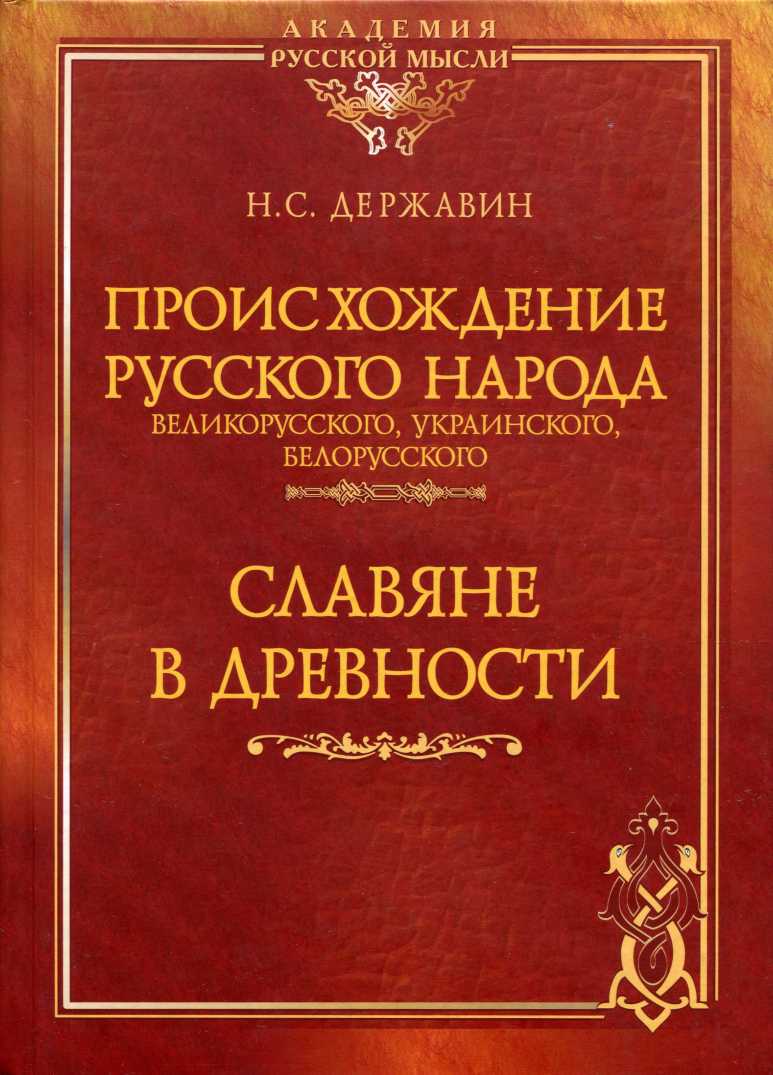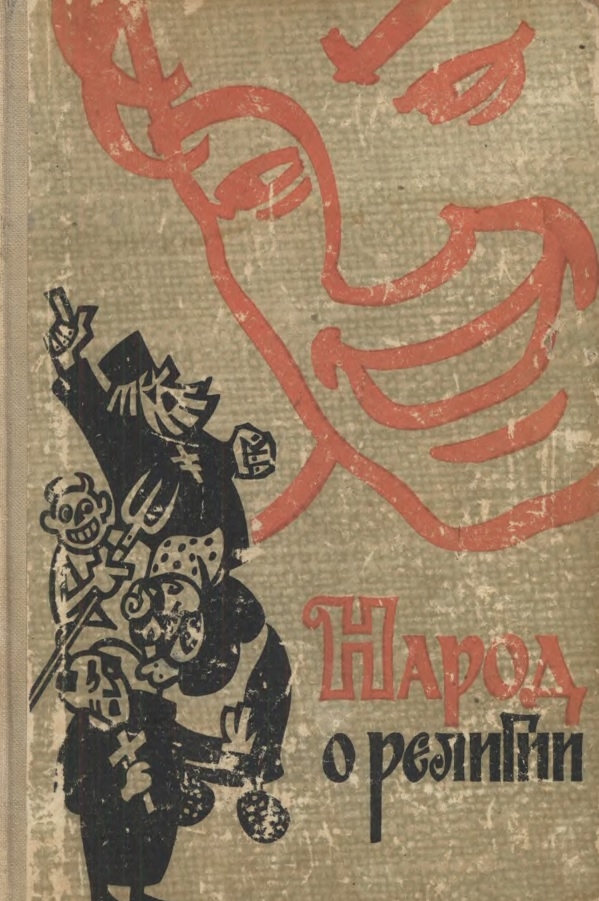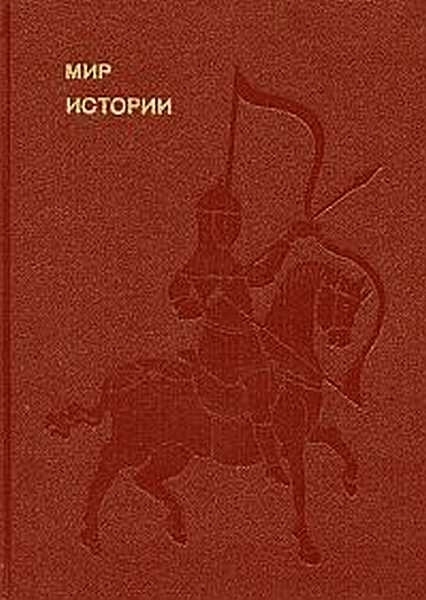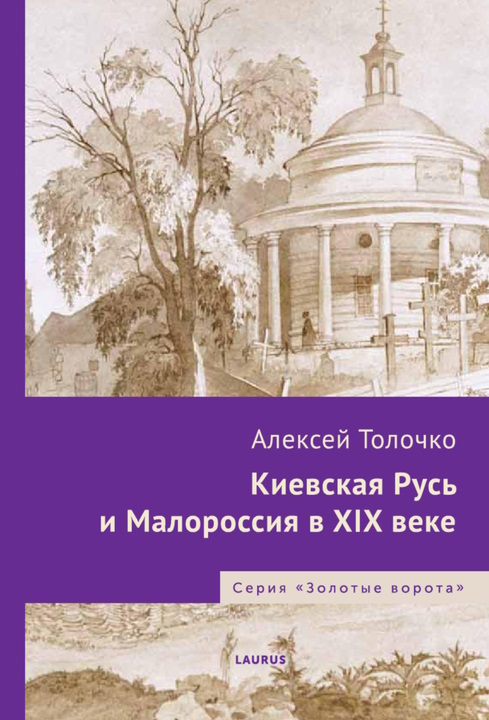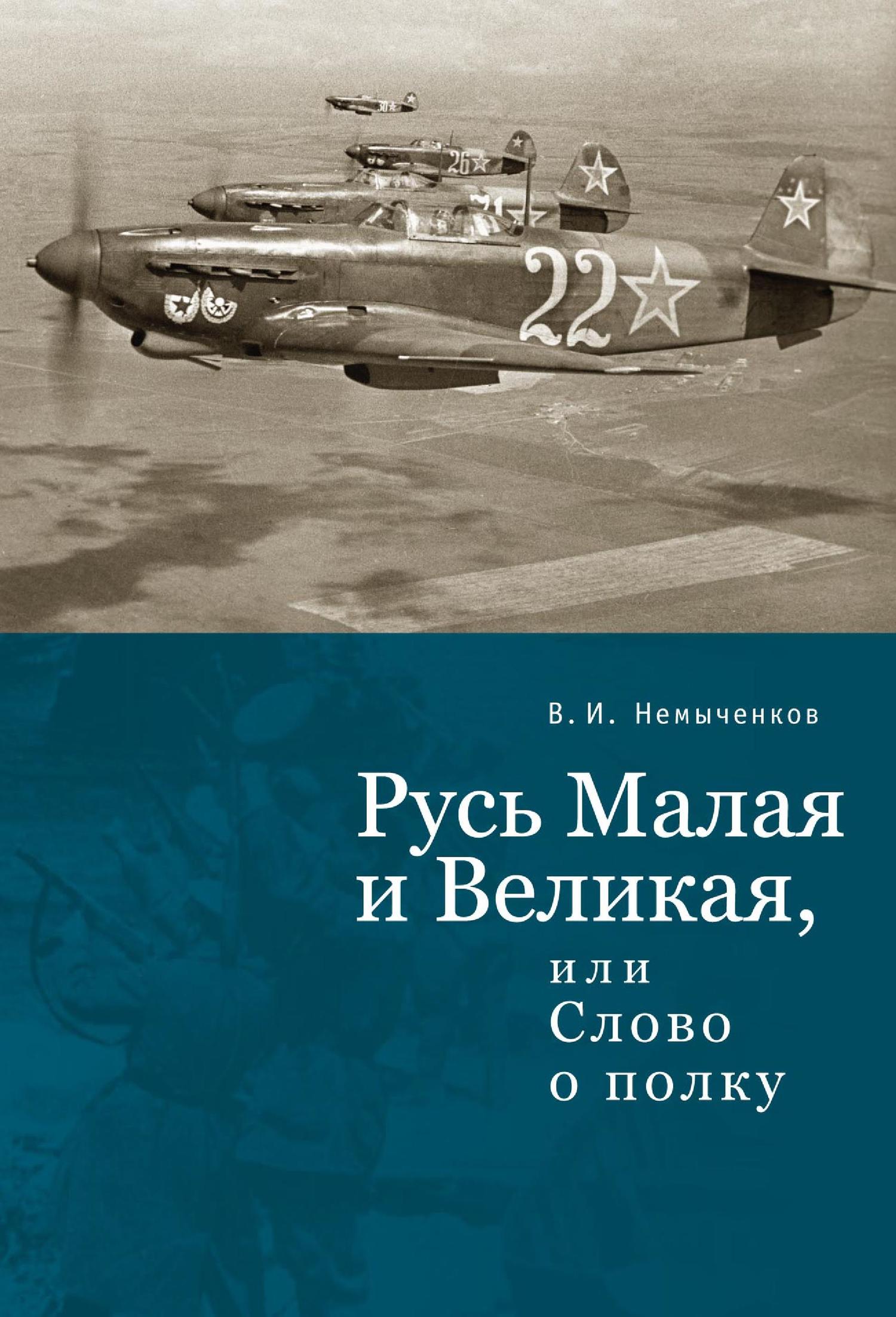переселенцы с Волыни. Так подтверждается важное теоретическое положение о разрыве родоплеменных связей и замене их связями территориальными, что присуще процессам формирования народностей.
Образование групп земель и княжеств – будущих территориальных центров трёх братских народностей – проходило в рамках Киевского государства и его древнерусской народности. Составление подобных групп не означало ослабления, тем более, разрыва связей между ними. Так же, как и во времена существования централизованной монархии Владимира Святославича и Ярослава Мудрого, все восточнославянские земли были объединены общими экономическими, социальными и культурными процессами.
Культурное единство древнерусской народности
Древнерусская народность сохраняла единство материальной и духовной культуры и в период феодальной раздробленности. Однако с 30-х годов XII века для её культурного развития складываются новые условия. На первый взгляд, существование определённого экономического и политического обособления земель и княжеств в XII – первом сорокалетии XIII веков создавало объективные условия для раздробления древнерусской культуры, её областной замкнутости. Но этого не произошло. И главную причину сохранения общности материальной и духовной культуры древнерусской народности современная наука видит в том, что местные особенности в культурной жизни каждой из частей Руси рождались, в основном, под влиянием правящей верхушки, а культурное единство поддерживалось трудящимся населением всей страны.
Установлено, в частности, что культурное очертание Владимиро-Суздальского княжества обязано своими местными особенностями крепкой княжеской власти в годы правления Андрея Боголюбского и Всеволода Юрьевича. Подобным образом локальные черты культурной жизни Галицко-Волынской Руси возникли благодаря централизаторским усилиям Романа Мстиславича и его сына Даниила Галицкого. А местные особенности в культуре Великого Новгорода появляются после политического переворота 1136 года, когда там устанавливается аристократическая республика, где господствовали бояре и купцы.
Пестрота областных художественных школ, стилей, традиций в литературе, изобразительном искусстве, архитектуре и так далее сдерживается сильным влиянием на культуру верхушки феодального общества в основном единой многовековой народной культуры. «Дроблению культуры по краям, – подчеркивал академик Д. С. Лихачёв, – противостоит проникновение в неё народных начал.» 30
Уже чисто внешнее сравнение архитектурных памятников XI – начала XII веков с сооружениями 30-х годов XII – XIII веков демонстрирует высвобождение последних из-под влияния иностранных образцов и традиций, главным образом византийских, заметный рост их самобытности. Силуэты и пропорции храмов эпохи феодальной раздробленности во Владимире на Клязьме, Боголюбове, Юрьеве-Польском и Галиче, отражающие влияние народного деревянного зодчества, реальные и фантастические образы их белокаменной резьбы доказывают глубинное проникновение народных принципов в архитектуру и скульптуру.
Носителями народных традиций в древнерусском обществе, в частности его культуре, были, в основном, горожане, прежде всего, ремесленники. Именно они создали единство материальной культуры на безграничных пространствах Русской земли, от Суздаля до Берестия (современный Брест – примечание переводчика), от Новгорода до Тмутаракани. В отличие от привязанных к земле крестьян, ремесленники не замыкались в пределах своего княжества, они постоянно общались с ремесленниками из других земель. Новгородские строители творчески использовали опыт смоленских и полоцких зодчих, галицкие «каменных дел мастера» трудились во Владимире на Клязьме, а смоляне – в Киеве и Чернигове.
Таким образом, нарастание глубоко народных начал в развитии древнерусской культуры успешно противостояло её дроблению по землям в XII – XIII веках, ибо в самой своей основе народное творчество было единым, единым был труд древнерусских ремесленников и крестьян, в какой бы они земле ни трудились: во Владимиро-Суздальской, Киевской, Рязанской или Новгородской.
В период феодальной раздробленности труженики огромной страны пользовались почти тождественными орудиями труда и бытовыми вещами, носили одежду и обувь, близкие по материалу, крою и манере исполнения. Советская наука получила чрезвычайно весомое доказательство единства культуры на всей территории, которую занимала древнерусская народность. В 1972 году археологи начали систематические раскопки на Подоле, одном из древнейших районов Киева. Эти раскопки, продолжавшиеся несколько лет, внесли серьёзные коррективы в научные представления о характере древнерусского народного жилья и массовой застройки восточнославянских городов Х – ХІІІ веков.
Археологи нашли на Подоле значительное количество деревянных срубных зданий, как жилых, так и хозяйственных. Без преувеличения можно сказать, что это открытие имеет мировое значение. Ведь издавна в научной литературе господствовало мнение, будто срубная деревянная застройка была присуща только городам Северо-Восточной и Западной Руси: Новгороду, Пскову, Старой Ладоге, Берестю и так далее, а города Южной Руси, в их числе и Киев, застраивались полуземлянками с глиняными стенами. Известный исследователь древнерусского Киева М. К. Каргер категорически утверждал, что в городе «основным типом жилья ...вплоть до XII–XIII веков продолжала оставаться полуземляночная постройка, нижняя часть которой представляла собой прямоугольное углубление, выкопанное в почве.» 31 Действительно, до 1972 года в Киеве находили в основном землянки и полуземлянки, деревянные же дома почти не попадались археологам. Теория, в соответствии с которой жилища Южной Руси домонгольской поры по типу и материалу отличались якобы от северо- и западнорусских, была в свое время использована украинскими буржуазными националистами для «доказательства» их измышлений о какой-то разнице в материальной культуре русских, украинцев и белорусов.
Еще до археологических открытий в Киеве 70-х годов «полуземляночная» теория выглядела несостоятельной при учёте чрезвычайно высокого экономического и культурного уровня развития Южной Руси: трудно представить, чтобы искусные ремесленники, какими были киевские мастера, или бывалые в заморских странах купцы ютились в жалких, сырых, погружённых в землю хижинах. Теперь установлено, что деревянные жилища срубного типа в Киеве решительно преобладали над полуземлянками. Последние находили чаще лишь потому, что они, благодаря углублению в землю, археологически обнаруживаются значительно чаще и поэтому были изучены лучше, чем срубные постройки. К тому же дерево почти не сохранялось в сухих почвах верхней части Киева.
Новые археологические открытия в Киеве доказывают наличие высокой культуры жилищного строительства X – XIII веков и, главное, «общность (его) историко-архитектурного формирования с городами других районов Киевской Руси.» 32 Народное жилище было единого, общего типа на всех восточнославянских землях: южных, северных и западных.
Диалектика историко-культурного процесса 30-х годов XII – первого сорокалетия XIII веков заключалась в том, что развитие культуры на местах вело, одновременно, к росту элементов её общности. Одной из основ единства культурных явлений на древнерусских землях XII – XIII веков была общность для всех них культурного наследия времён существования централизованного Киевского государства (IX – начало XII веков). Эта общность присуща областному летописанию (Киевскому, Суздальскому, Новгородскому и другим), то обязательно начинается с «Повести временных лет» – общерусского произведения, а уже затем переходит к местным событиям: живописи, архитектуре, художественному ремеслу, которое развивало и творчески переосмысливало блестящие традиции мастеров Киева. Общность ощущалась даже в названиях