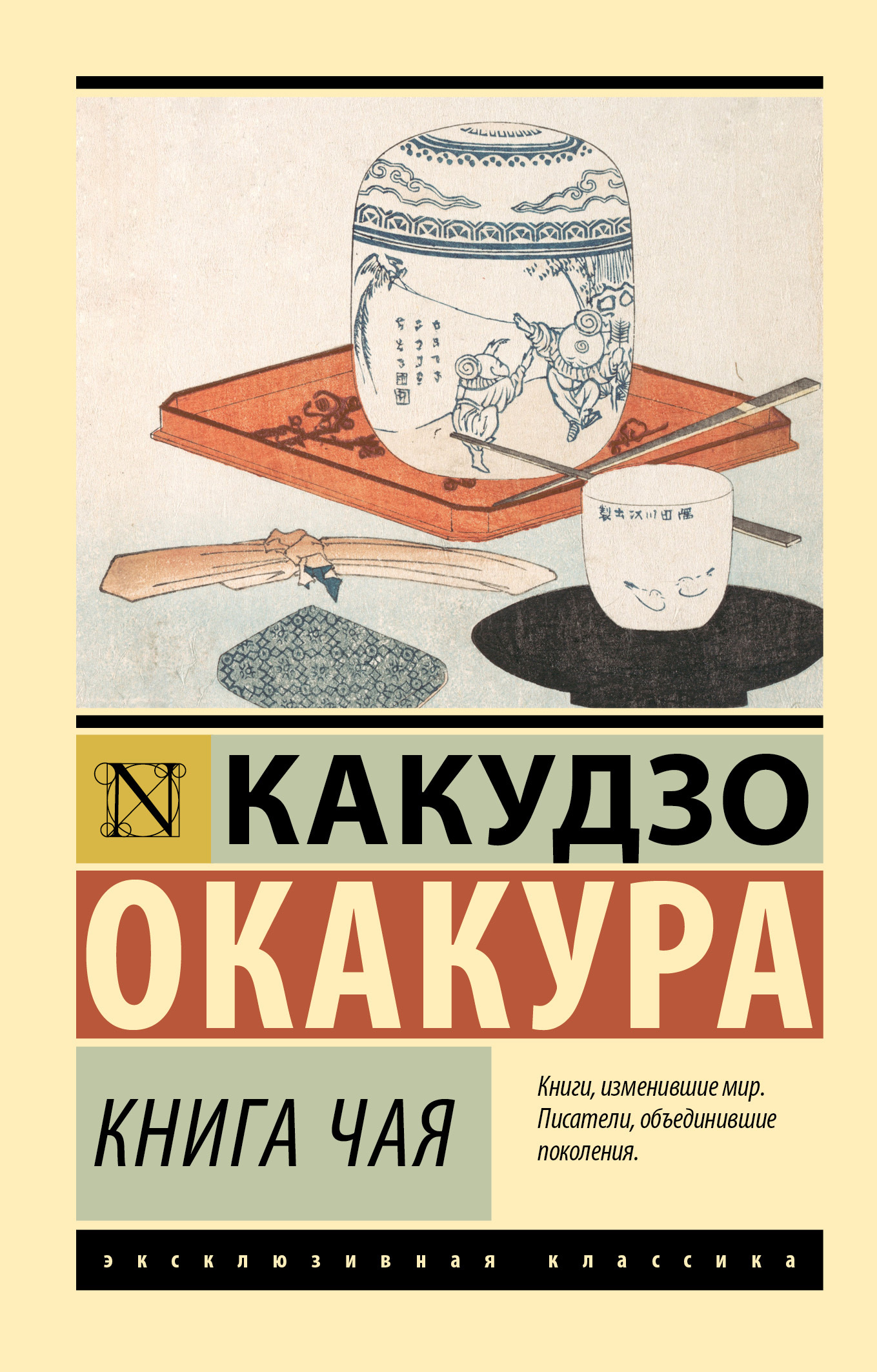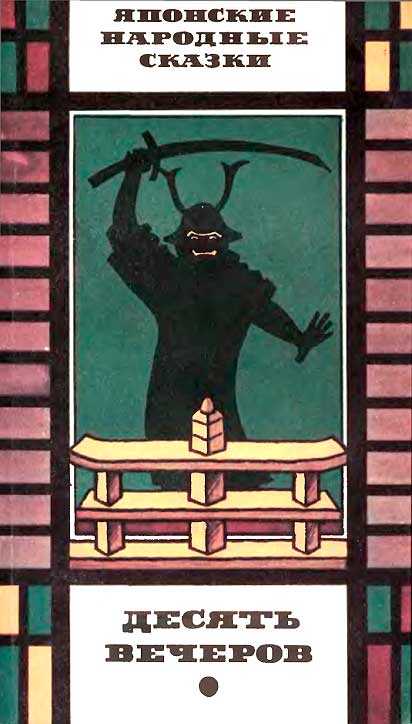дуалистической мифологией Туркестана в те времена, когда они еще бродили среди высоких трав плато; а прежде всего, они сохранили великую идею всеобщего братства – неотъемлемое наследие всех скотоводческих народов, которые кочуют между Амуром и Дунаем. Тот факт, что в Китае крестьянину предшествовал пастух, нашел отражение и в мифологии, которая утверждает, что первым императором стал Фу Си, Учитель Пастбища, за которым последовал Шэнь-нун, чье имя переводится как «Божественный Земледелец».
Учитель Пастбища – прозвище означает «развивавший скотоводство».
Потребность в формировании именно земледельческого общества все же складывалась медленно, неспешно развиваясь в течение бесчисленных веков спокойствия, пока не породила великую этическую и религиозную систему, в основе которой лежали Земля и Труд и которая до сих пор составляет неисчерпаемую силу китайской нации. Верные этой системе, своему родовому укладу с его самодостаточным и возвышенным принципом общинности, ее дети и сегодня, несмотря на политические беспорядки, продолжают распространять свое промышленное завоевание всех доступных уголков земного шара.
Конфуцианство
Именно на долю Конфуция (551–479 гг. до н. э.) в конце правления династии Чжоу выпало прояснить и изложить эту великую схему всеобщего труда, достойную изучения всеми современными социологами. Он посвящает себя созданию религии, в основе которой лежит этика и посвящение Человека Человеку. Для Конфуция Богом является человечество, а главная идея его учения состоит в достижении гармонии жизни. Предоставив индийской душе воспарять и сливаться с бесконечностью неба, эмпирической Европе – исследовать тайны земли и материи, а христианам и семитам – мечтать в земной жизни о вознесении в рай, конфуцианство призвано удерживать великие умы чарами своих широких интеллектуальных обобщений и своего бесконечного сострадания к простым людям.
Эмпирический – равняющийся на опытное знание, добывающий новое знание путем эксперимента, проверяющий знание по данным, полученным в материальном мире.
И Цзин, или Книга перемен, китайская Веда, полная намеков и аллюзий, отсылающих к пастушеской, крестьянской жизни, хотя с ее помощью она приближается к Непостижимому, является почти запретной страницей для агностика Конфуция, который говорил: «Еще не зная, что такое жизнь, как я могу рассуждать о смерти?» Согласно китайской этике, ячейкой общества является семья, основанная на упорядоченной системе иерархического послушания, и крестьянин имеет равное значение с императором – правителем-отцом, чьи добродетели поставили его во главу великого общинного братства взаимных обязанностей, с полного согласия этого братства и по его собственному выбору.
Агностик – философ, считающий невозможным достоверное знание о Боге и предельных вопросах бытия, таких как бессмертие души. Агностицизм допускает бытие Бога и бессмертие, но не считает возможным об этом рассуждать, из-за того, что это рассуждение всегда будет основано на мнимом знании, не обладающем достоверностью. Агностику противопоставлен гностик, философ, настаивающий на полной или частичной познаваемости Бога, на том, что наше достоверное знание о предельных вопросах уже есть наше спасение и вечная жизнь. Великие религиозные системы отвергают как агностицизм, показывая нравственную достоверность Божества и неотменимость религиозных фактов, и гностицизм, требуя благоговения перед Божеством как тайной.
Музыка и поэзия
Высшим жизненным принципом было самопожертвование индивида обществу, и искусство ценилось за его служение делу воспитания нравственных основ. Отметим, что музыку ставили на самую высшую ступень, поскольку ее особая функция заключалась в гармонизации человека с человеком и общины с общинами. Вот почему в эпоху Чжоу изучение музыки считалось первым по важности занятием юноши благородной крови.
Некоторые вспомнят, что знают из жизни и учения Конфуция не только несколько диалогов, в которых он с любовью рассуждает о красоте, но и истории о том, как он ограничивал себя постной пищей, но не отказывался от прослушивания музыки, о том, как он однажды шел за ребенком, который бил в глиняный горшок, просто ради удовольствия наблюдать, как люди воспринимают этот ритм, или, наконец, о том, как он отправился в провинцию Шэй (Шаньдун), движимый желанием услышать древние песнопения, которые там сохранились с древних времен Тайко-бо.
Тайко-бо – советник первого властителя из династии Шу, впоследствии единоличный правитель провинции Шей (Шаньдун).
Подобным образом и поэзия рассматривалась как средство, способствующее политической гармонии. Деятельность правителя состояла не в том, чтобы приказывать, а в том, чтобы предлагать, и целью его было не запрещать, а направлять; признанным средством достижения этого считалась поэзия. Существует теория, которая утверждает, что, как и в средневековой Европе, главными формами этой поэзии являлись народные песни сельской местности, с их любовными волнениями, воспеванием труда и красоты земли; военные баллады о пограничных сражениях, в которых слышны лязг оружия и топот копыт рвущихся вперед коней; а также странные песнопения о сверхъестественном, о границе того царства, где невежество преклоняется перед Бесконечным. Такие поэтические представления могли появиться только в век, богатый подобными элементами, и лишь среди людей, у которых поэзия еще не стала способом индивидуального самовыражения. Мудрец собрал древние баллады для иллюстрации обычаев и нравов китайского золотого века – времени трех ранних династий Гха (Шан), Инь и Чжоу, когда их песни содержали информацию о том, благополучна ли жизнь в провинции, хорошее или плохое там управление.
Существует теория… – Окакура воспроизводит обычное в тогдашней медиевистике деление средневековой поэзии на «поэзию народа», «поэзию замка» и «поэзию монастыря». Многообразие средневековых поэтических жанров в этой теории объяснялось наличием трех разных областей творчества: народная простодушная поэзия, изысканная феодально-куртуазная поэзия и религиозно-мистическая поэзия. Это весьма упрощенная схема, но она позволяла связать поэтические мотивы и социальный контекст их возникновения.
Даже живопись ценилась за то, что она прививала привычку к добродетели. В своих диалогах о жизни и семье Мудрец рассказывает о посещении мавзолея правителей Чжоу и упоминает изображения на стенах: портрет Чжоу-ко, держащего на руках младенца, будущего правителя Цэй-во, он противопоставляет изображениям Се-цзу и Чжу, деспотичных тиранов прошлого, показанных в моменты праздных наслаждений. Обращаясь к рисункам, мудрец рассуждает на их примере о славе и подлости.
Чжоу-ко, Чжоу-Гун – младший брат У-вана, основателя династии Чжоу. Цей-Вон, Цзи-сун, он же Чжоу Чэн-ван; Чжоу-Гун как раз был регентом при малолетнем Чэн-ване. Се-Цзу, Ся Цзе – легендарный китайский правитель, образец нечестивого правителя, возмущение которым привело к свержению династии Ся, о которой нет достоверных исторических свидетельств. Чжу, Чжоу, он же Ди Синь – один из худших правителей Китая, полулегендарный последний правитель династии Шан; свергнуть его удалось