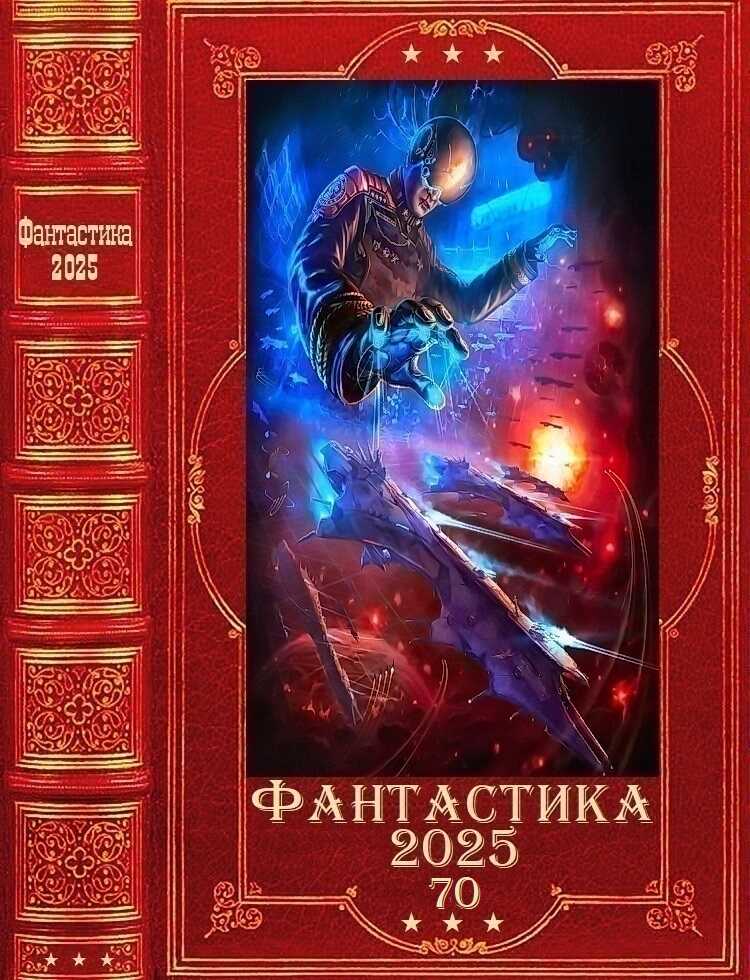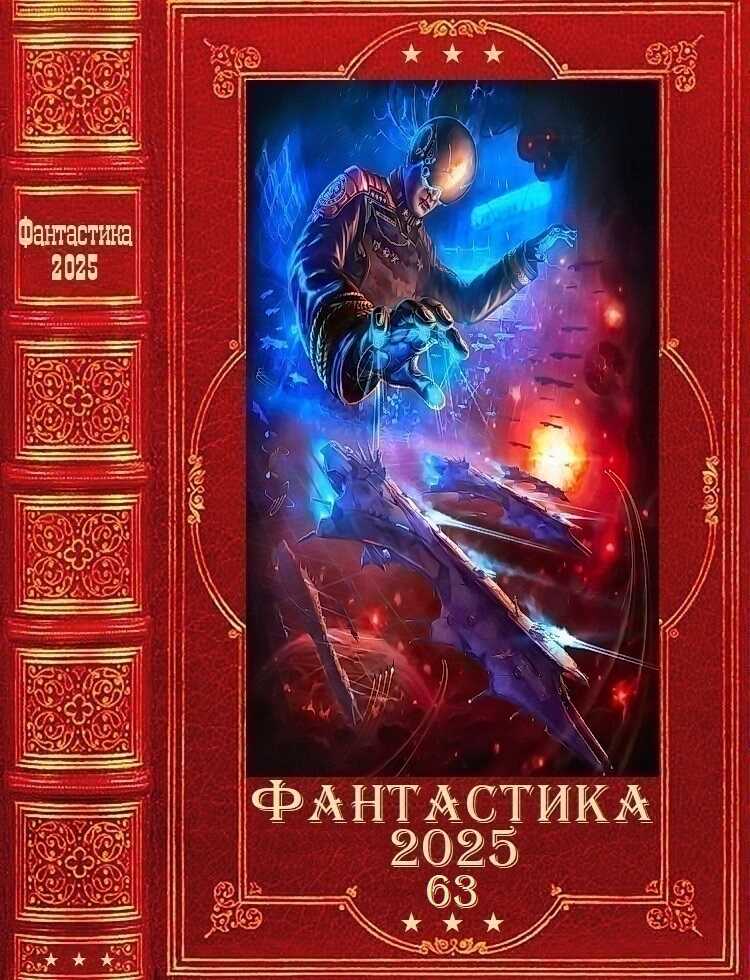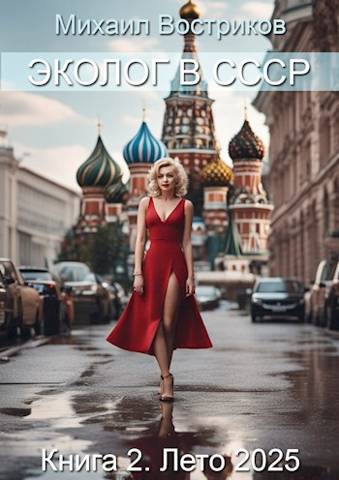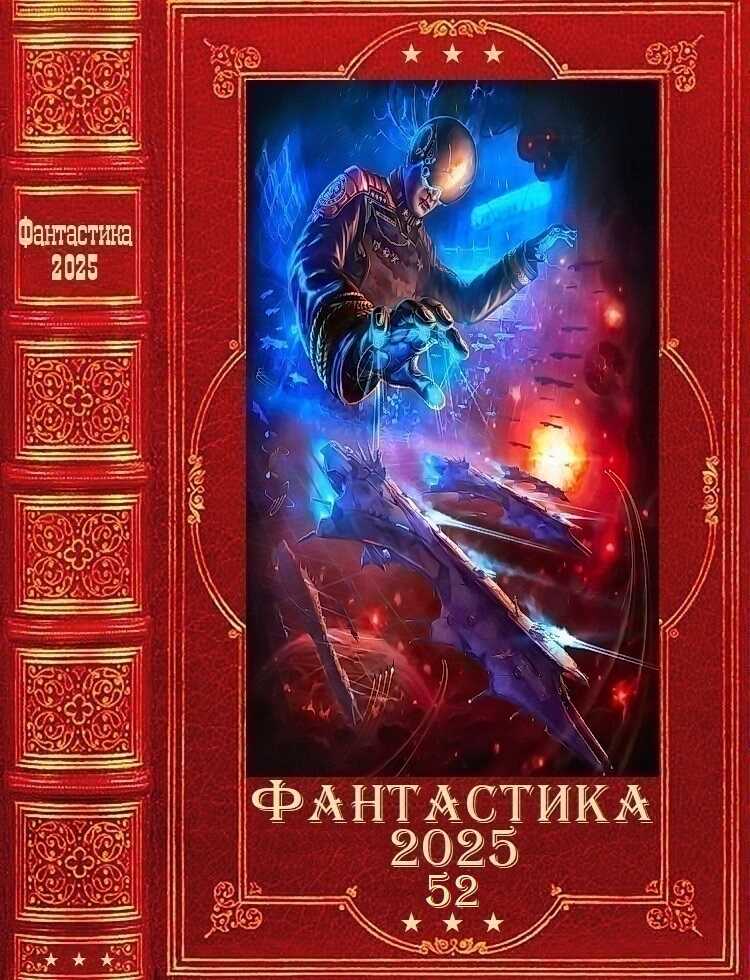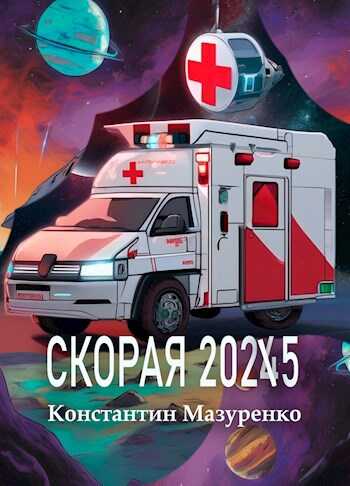о прелестях коммунальных квартир. За яркими газетными витринами скрывалась тяжелая городская жизнь. Послевоенные государственные займы «восстановления и развития народного хозяйства» были принудительными – к 1956 году госдолг по облигациям превысил 250 миллиардов рублей.
– Это была обязательная часть жизни, мама держала такие облигации, – вспоминает моя родная тетя Алевтина Геннадьевна Косарева, – прекрасно помню эти крупные, словно простыня, бумаги.
За основными продуктами питания по-прежнему стояли в очередях. За мукой занимали место с раннего утра, а зимой людские вереницы у дверей магазинов напоминали блокадные времена. В городе продолжались восстановительные работы, в центре Ленинграда, серьезно пострадавшем от обстрелов, до конца пятидесятых мертвым камнем покоились разрушенные немецкими снарядами и авиабомбами здания. На углу проспекта Горького и Татарского переулка работала булочная, в которой хлеб продавали не целым и половинками, а нарезными частями; у общежития, располагавшегося напротив фасадного дома на Мытнинской набережной, была полностью снесена крыша.
– Мама не разрешала подходить близко к окну, – говорит Алевтина Геннадьевна, – видимо, боялась, что обломки здания могут попасть и в нашу квартиру.
– Накопившееся в обществе напряжение выплеснулось во время футбольного матча «Зенит» – «Торпедо» 14 мая 1957 года, – рассказывает известный петербургский журналист Михаил Григорьев. – Ленинградский футбольный бунт спровоцировал шофер завода «Знамя Труда» Василий Каюков, который по ходу встречи выбежал на поле и, оскорбляя голкипера «Зенита» Владимира Фарыкина, занял его место в воротах.
Массовые беспорядки, грозившие вылиться в политические протесты, погасили только глубокой ночью после вмешательства особого отряда милиции и курсантов военных училищ. Из шестнадцати подсудимых максимальный срок получил Юрий Гаранин, которому инкриминировалась политическое подстрекательство за фразу «Даешь вторую Венгрию!». В декабре 1959 года комиссия Верховного суда осужденных амнистировала, однако через несколько лет им были предъявлены новые, экономические обвинения. За «Зенит» в матче с «Торпедо», за которое один из последних мячей перед арестом забил Эдуард Стрельцов, играли Станислав Завидонов и Юрий Андреевич Морозов. Мастер спорта СССР Владимир Фарыкин утонул в Вуоксе в мае 1962 года.
– В конце пятидесятых годов «Зенит» стал обновляться, стали подключать ленинградскую молодежь, – вспоминал Вадим Григорьевич Храповицкий. – Почему не могли претендовать на высокие места? Требования руководителей команды тогда были попроще. Самые памятные матчи? Конечно, против «Спартака» и киевского «Динамо». Командочка у Киева была будь здоров!
После окончания сезона 1958 года «Зенит» был признан лучшей профсоюзной командой страны. Команда без амбиций, с единственным трофеем, находясь в тени ленинградского «Динамо», оставалась Золушкой на балу советского футбола. 15 апреля 1965 года в матче с ростовским СКА в составе «Зенита» дебютировал Павел Садырин. По итогам сезона, в котором «Зенит» занял девятое место, будущий тренер чемпионов СССР был включен в список тридцати трех лучших футболистов Советского Союза. Садырин выделялся надежной игрой на футбольном поле и обладал отменными человеческими качествами. Осенью 1968-го в Баку перед матчем с «Нефти» он вместе с Василием Даниловым и Львом Белкиным спас погибающую во время наводнения девушку. По просьбе администрации гостиницы зенитовцы спустились в подвал, где по пояс в воде, вслепую нашли заблокированную в помещении молодую телефонистку. Садырин выбил дверь доской и с помощью Данилова и Белкина вытащил несчастную. Двадцать лет спустя Павел Садырин спасет утопающего в пруду мальчика. Его поступки олицетворяли дух ленинградского «Зенита».
«Зенит» поднимает голову
Начало семидесятых – золотое время для ленинградской детворы: пионерские лагеря, вкусное мороженое, аттракционы и «Неуловимые мстители», засмотренные до дыр на экранах городских кинотеатров. Мне кажется, современная педагогика в погоне за результатами ЕГЭ потеряла самое главное: любовь, внимание, заботу. Меня часто спрашивают, как найти для ребенка верный образовательный маршрут, который, как дорога из желтого кирпича, привел бы к желаемой цели. Нет такого маршрута. Я, не будучи сторонником теории чистого листа бумаги и генетической предрасположенности, советую чаще поощрять детей, проводить мягкую педагогическую коррекцию, иногда закрывать глаза на недостатки, во внешних конфликтах вставать на сторону ребенка, создавать условия для развития личности, быть рядом, не навязывать свои интересы, помогать преодолеть дорогу к пьедесталу. Я за педагогику успеха и коллективные творческие дела – так, как это делали в те самые семидесятые, когда детям предоставлялись неограниченные возможности для творчества. Бить в барабаны в пионерском галстуке – пожалуйста. Драмкружок – замечательно! Музыкальная школа – волшебно. Спорт – вообще наше все.
Я хорошо помню свое счастливое советское детство: зимние горки в парке имени Ленина, зоопарк, памятник миноносцу «Стерегущий», навсегда сформировавший глубочайшее почтение к военным морякам. Я застал времена, когда можно было купаться в Неве, в которую мы ныряли с разбега (да, да!) на пляже Петропавловской крепости. Каждое лето я проводил в старинном городе Галич. Знавал Севастополь, на южном солнце которого мирно грелись военные корабли Черноморского флота. В 1973-м мы переехали в Веселый поселок, и мне, выросшему в историческом центре Ленинграда (окна нашей комнаты выходили на Зимний дворец), первые месяцы казались высылкой за сто первый километр. Но именно во дворах, как мне казалось, улетающих ввысь девятиэтажек я начал играть в футбол. Мама, отпускавшая во двор только после двухчасовых занятий музыкой, не чинила препятствий моим спортивным увлечениям и даже помогла записаться в футбольную секцию. Так я стал игроком футбольного клуба «Торпедо». В восьмилетнем возрасте я впервые услышал и о «Зените» – отец, капитан III ранга, болел за ЦСКА, но о ленинградской команде всегда отзывался с подчеркнутым уважением. Вскоре я начал регулярно ходить на футбол: дядя Толя водил меня на игры «Зенита» на Крестовский остров и на стадион имени Ленина, а во время подготовки к Олипиаде-80 – на «Кировец», где я стал свидетелем дебютных матчей за «Зенит» Владимира Долгополова и Валерия Брошина.
Мою жизнь по-прежнему наполняли диезы и бемоли, но я все чаще и чаще разбивал на гаревых полях свои нечастные колени и калечил длинные, музыкальные, как говорила моя мама, пальцы – учительница музыки Марина Николаевна без слез не могла смотреть на мои изувеченные руки. «Зенит» в то же время постепенно оставлял на вторых ролях ведомственное «Динамо» и становился главной командой города на Неве. С командой работали именитые, серьезные специалисты – заслуженный тренер РСФСР Евгений Иванович Горянский, заслуженный тренер СССР Артем Григорьевич Фальян, заслуженный тренер Украинской ССР, мастер спорта Герман Семенович Зонин, в 1972 году выигравший с ворошиловградской «Зарей» золотые медали чемпионата Советского Союза.
– К сожалению, в семидесятые годы ни город, ни руководство не ставили перед командой серьезных задач, хотя в составе команды выступали игроки высочайшего уровня: Лев Дмитриевич Бурчалкин, Владимир Александрович Казаченок, Станислав Петрович Завидонов, Владимир Евгеньевич Голубев, Павел Федорович