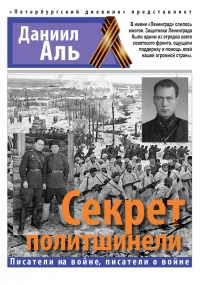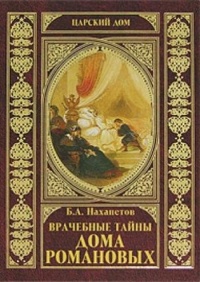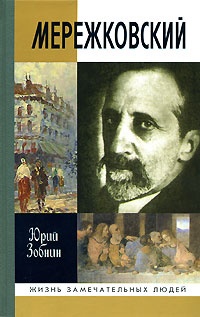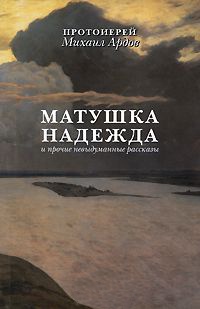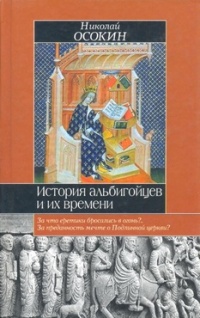И стал я плакать надо всем Слезами радости кипящей.
Если же учесть, что Гумилев мыслил категориями православной сотериологии, все становится понятным. «В самый лучший, светлый день» его жизни ему было дано неложное обетование от Господа в том, что он сподобится мученического венца, который и искупит его грехи и примирит его со Христом.
И вот теперь мы можем с полной уверенностью сказать о духовном облике Гумилева: он не был декадентом (агностиком, дуалистом, «богоискателем» и т. п.). Он не был даже обычным «теплохладным» верующим интеллигентом. Радоваться до «кипящих слез радости» известию о том, что ему суждено умереть насильственно и страшно, может только человек, для которого примирение со Христом и близость к Нему — ценность столь огромная, что перед ней все страдания и удовольствия земной жизни ничто, ноль, прах, сор или, по дословному переводу с латыни слова stercus, употребленного апостолом Павлом при подобном сопоставлении (Флп. 3: 8), — «дерьмо».
Гумилев понял, что душа его не будет отвергнута, что он спасется, — цена, которую он должен будет заплатить за это, его не интересовала. Между тем эта полностью удовлетворяющая поэта цена искупления — бессудная казнь в «болотине проклятой», — заставляет оценить жесткость гумилевской оценки собственных, столь безобидных на первый взгляд, особенно на фоне того, что творилось в окружавшей его символистской среде, декадентских эскапад 1906–1907 гг.
VI
Попробуем представить ход его мысли — мысли, четко следующей по тому пути покаянного максимализма, которому учит Церковь.
Допустим, что он только «играл в символизм», и все бредовые видения, перемешанные с описаниями фрагментов каких-то инициаций, оргий, ритуальных совокуплений и т. п., которые встречаются в его ранней поэзии не результаты личного пережитого «мистического опыта», а изложение проработанных им книг по черной магии и оккультизму (вспомним, ведь в гумилевской поэме четко сказано, что лично он — не святотатствовал). Однако заинтересованное и, главное, сочувственное чтение подобной литературы неизбежно ставит любопытствующего в чрезвычайно опасную личную близость к источнику зла. По крайней мере, существует огромная опасность мысленного греха — не менее страшная, нежели опасность греха действенного, вспомним: «…всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5: 28). То, что подобные переживания мысленного греха были знакомы Гумилеву, мы можем утверждать, вспомнив яркую картину схожего психологического состояния героя стихотворения «В библиотеке» (1909):