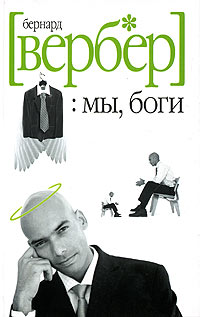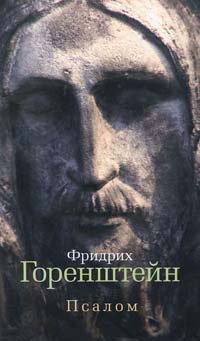Тэтэпоппо,Какапоппо,Тэтэпоппо,Какапоппо,Тэтэ…
(внезапная пауза).
Тэтэ – это детское слово, которое означает «папа», а кака означает «мама»; а поппо в речи младенцев означает «грудь»[139].
Дикие певчие камышовки (угуису) также часто услаждают мои летние дни своим пением, а иногда оказываются очень близко от дома, привлеченные, очевидно, трелями моего домашнего певца в клетке. Угуису очень распространены в этой провинции. Они обитают во всех лесах и священных рощах в окрестностях города, и не было случая, чтобы в своих поездках по Идзумо в теплое время года я не услышал бы их пения, доносящегося из какого-нибудь тенистого уголка. Но угуису сильно разнятся между собой. Есть угуису, которых можно приобрести за пару иен, однако великолепно обученный, выращенный в клетке певец может обойтись не менее чем в сто.
Одно любопытное поверье об этом изящном создании я впервые услышал не где-нибудь, а в маленьком деревенском храме. В Японии гроб, в котором усопшего несут к месту погребения, совершенно не такой, как западный гроб. Это удивительно маленький кубовидный ящик, в который покойника помещают в сидячем положении. Как тело любого взрослого человека может быть помещено в такой маленький объем, остается загадкой для иностранцев. В случаях сильного трупного окоченения работа по помещению тела в гроб трудна даже для профессиональных досин-бодзу. Но верные последователи Нитирэн заявляют, что после смерти их тела останутся идеально гибкими; и тельце мертвой угуису, утверждают они, также никогда не коченеет, ибо эта птичка-невеличка привержена их вере и проводит всю свою жизнь, распевая хвалы сутре Лотоса Благого закона.
XIV
Мне как-то очень уж полюбилась моя тихая обитель. Ежедневно, вернувшись домой после завершения своих педагогических трудов и сменив учительскую форму на бесконечно более удобные японские одежды, я нахожу более чем достаточное вознаграждение за тяготы пяти учебных часов в простом удовольствии посидеть, поджав под себя ноги, на тенистой веранде, с которой открывается вид на сады. Эти старинные стены сада, покрытые мхом под самый свес черепицы, местами обрушившийся, как мне кажется, не пропускают даже шума городской жизни. Здесь не слышится никаких звуков, кроме птичьих трелей, стрекота сэми, или, через долгие ленивые промежутки, одинокого всплеска нырнувшей лягушки. Нет, эти стены укрывают меня не только от городских улиц, но и от чего-то значительно большего. За ними гул преобразованной Японии – страны телеграфов, заводов, газет, пароходов; внутри их царит полное умиротворение природы и грезы шестнадцатого столетия. Очарование необычности присутствует в самом воздухе – неуловимое ощущение чего-то незримого и сладостного, что окружает вас со всех сторон; возможно, это магически-призрачное присутствие давно почивших дам, которые выглядели подобно дамам в старинных книжках с картинками и которые жили, когда все здесь было еще совсем юным. Даже в летнем свете, играющем на причудливых посерелых каменных формах, дрожащем на листве долго и любовно взращиваемых деревьев, присутствует нежность призрачной ласки. Это сады прошлого. Будущему они будут известны только как грезы, творения забытого искусства, очарование которых не будет способен воспроизвести ни один гений.