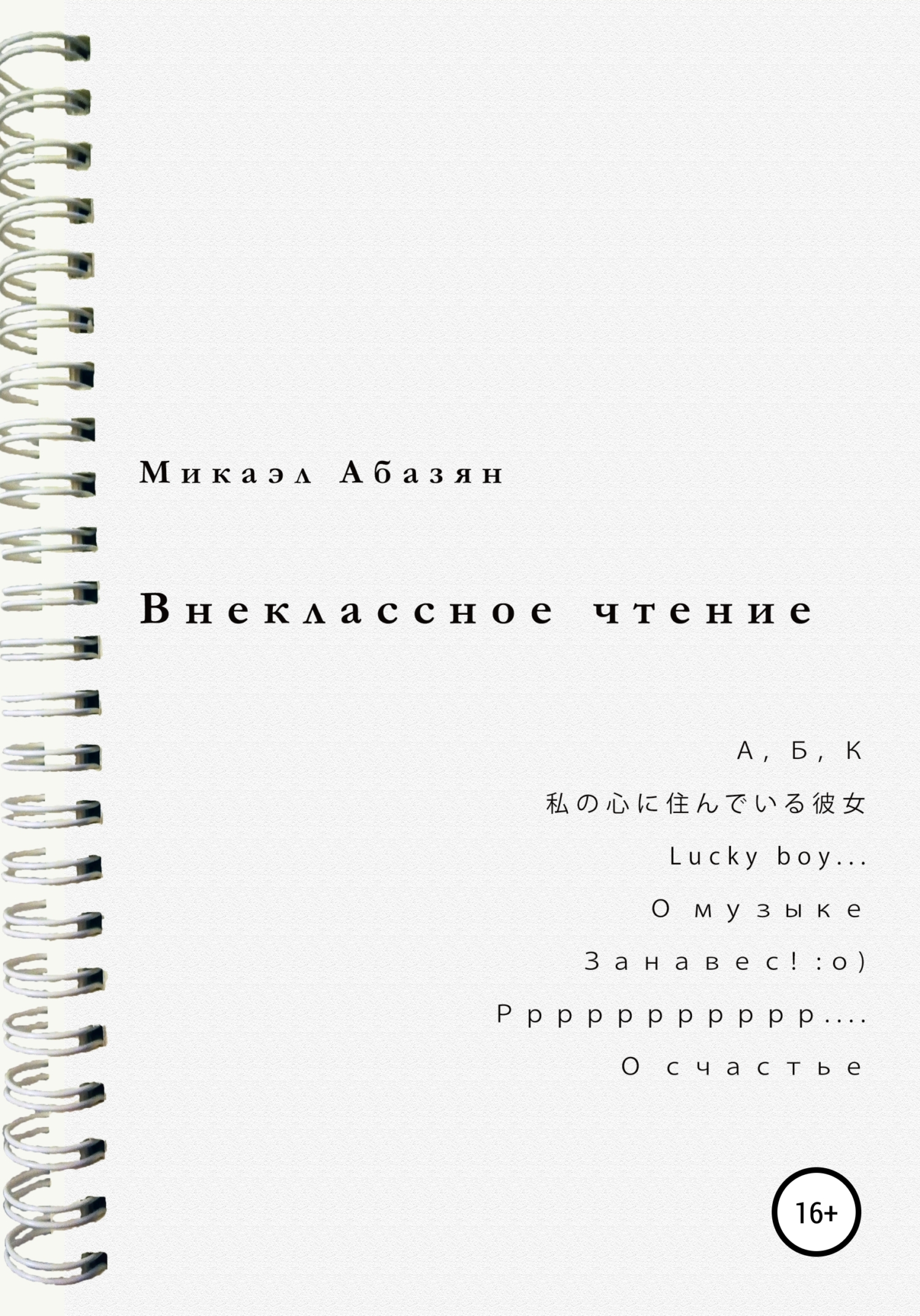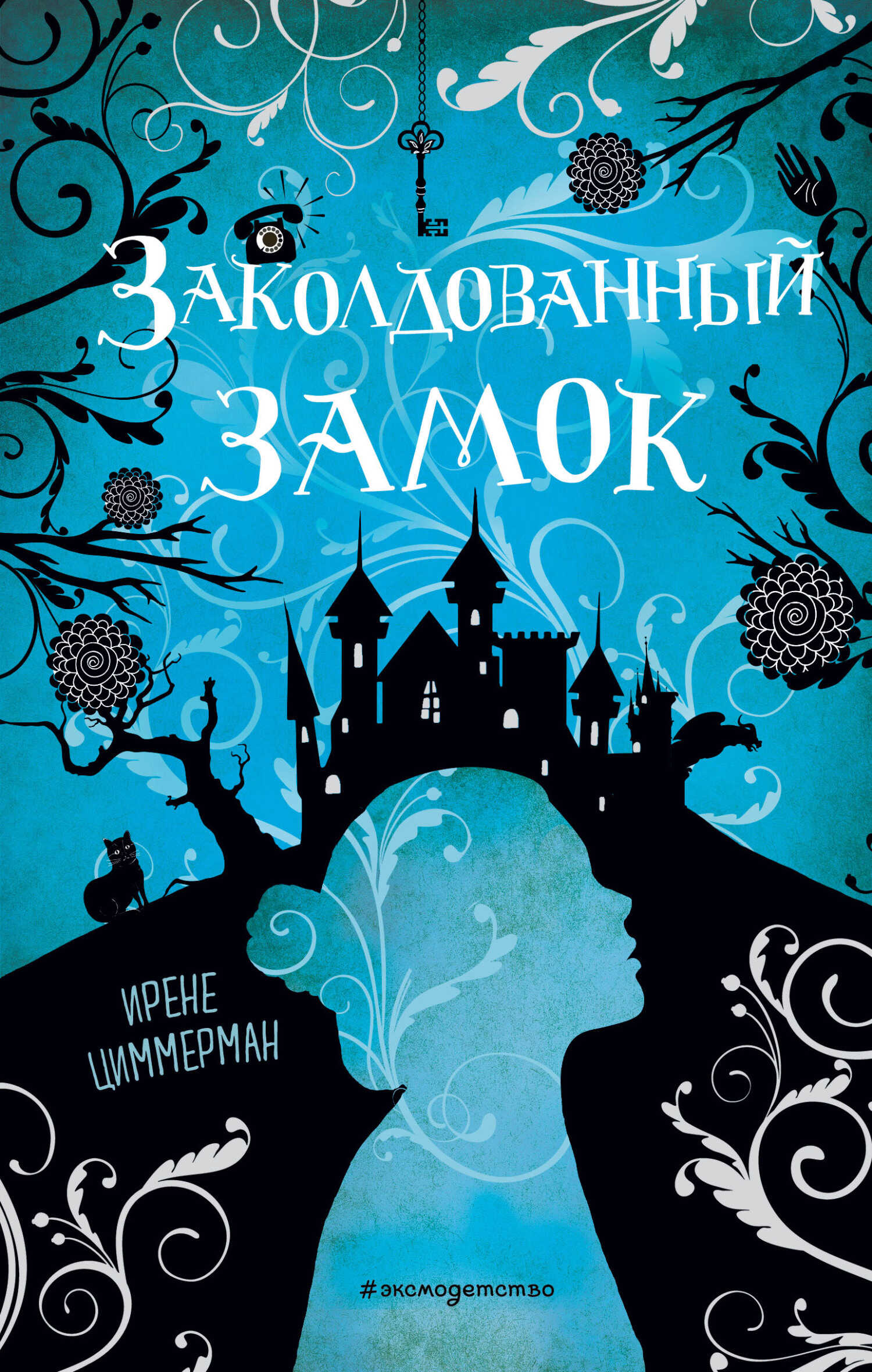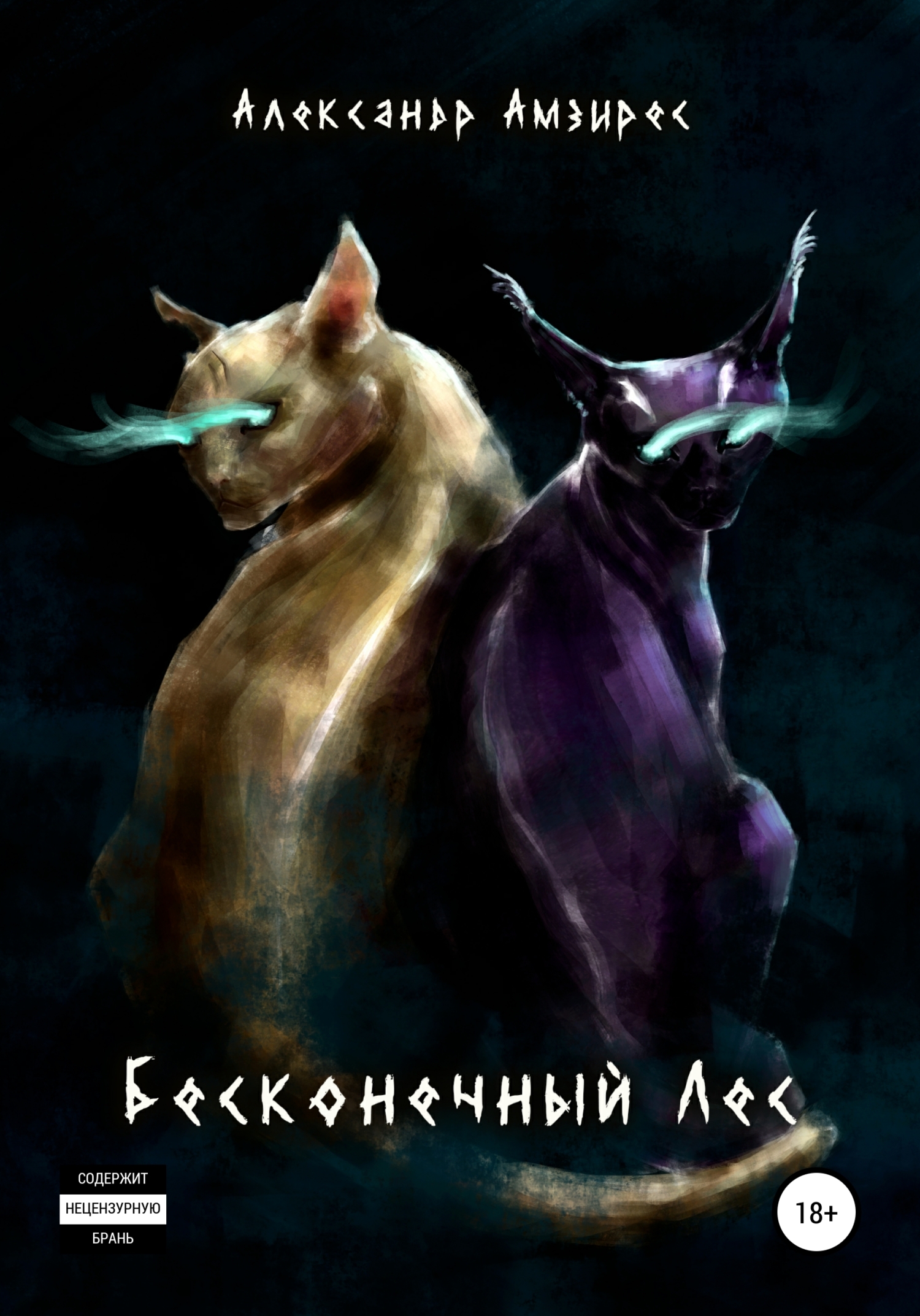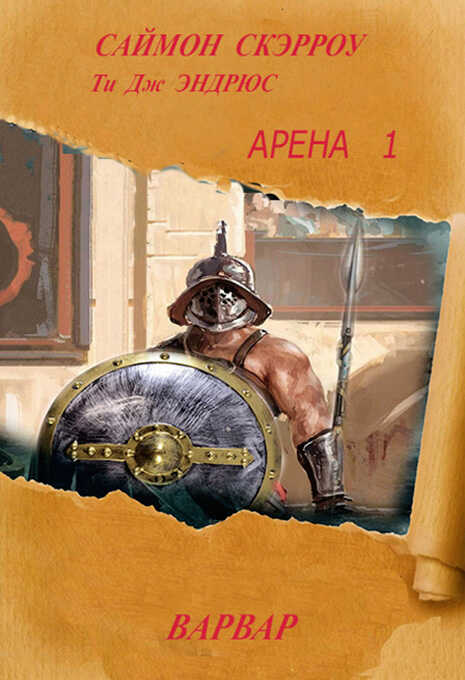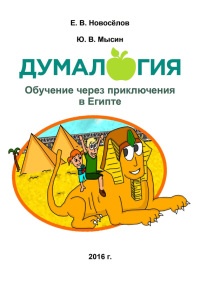Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 119
Пропуск в будущее выдавался лишь некоторым, самым важным историям, стихам, суждениям.
Принадлежность к канону представляла собой вопрос жизни и смерти – в те времена писаное слово было вымирающим видом. Избранные книги существовали в большем количестве экземпляров; их престиж измерялся числами – имевшими отношение не к торговле, но к надежде. Все они находили приют от непогоды в публичных библиотеках. Еще одним гостеприимным домом служили школы. Тексты, использовавшиеся на уроках письма и чтения, копировались повсюду – лучшее страхование жизни для книги. В условиях образовательной системы, лишенной всякого намека на централизацию и академические авторитеты, каждый учитель мог свободно выбирать, что читать с учениками. Совокупность этих индивидуальных решений вдохновлялась каноном, но одновременно и влияла на него, видоизменяя.
В Древней Греции и Древнем Риме существовал один-единственный жанр, который, не имея аристократических корней и не претендуя на высоколобость, сумел выковать авторов-классиков: басни о животных. У зыбкой фигуры Эзопа имелся – куда же без него – римский «близнец»: бывший раб Федр. Мир в античных баснях отражал иерархию, рисовал столкновение между более мелкими и слабыми зверями и птицами – овцами, курицами, лягушками, ласточками – и более могучими – львами, орлами, волками. Прозрачная аналогия, ясный диагноз: слабых, как правило, истребляют. В редких случаях слабому с помощью хитрости удается победить, но гораздо чаще сильные от него мокрого места не оставляют. В одной из этих печальных историй журавль засовывает голову в глотку льву и вытаскивает застрявшую кость, но не получает обещанной награды – или ему мало, что голова осталась на месте? В другой ягненок отбивается от надуманных обвинений волка, но, пока он держит речь, тот подкрадывается к нему и недолго думая проглатывает. Общая мораль жанра состоит, кажется, в том, что всякий должен смириться со своей долей. Самым уязвимым нечего надеяться на закон – эту паутину, которая улавливает мух, но рвется под напором крупных птиц. Ничего равного басням по откровенности и горечи в каноне нет. И если они столь далекие от элит, пробили себе дорогу, то только потому, что учителя веками прибегали к ним на занятиях.
Одному из таких римских учителей, Квинту Цецилию Эпироту, пришла в голову революционная мысль: изучать с детьми тексты живых авторов. Благодаря школе некоторые писатели I века вкусили славы классиков, и для этого им не пришлось умирать. Больше всех повезло Вергилию. Мэри Бирд отмечает, что в Помпеях было найдено около пятидесяти цитат, нацарапанных на стенах. Большинство – из двух первых книг «Энеиды», наверняка предпочитаемых учителями. Складывается впечатление, что в 79 году каждый, даже не читав поэму, знал, что «Энеида» начинается с «Битвы и мужа пою…», – так же, как сегодня не нужно быть специалистом по Сервантесу, чтобы знать, название какого села ламанчского у нас нет охоты припоминать. Какой-то весельчак оставил шутливую надпись, пародирующую это начало, на стене помпейской сукновальни. Намекая на птицу-покровительницу сукновалов, безвестный юморист написал: «Труд и сову я пою, а вовсе не битвы и мужа». Шутки шутками, но налицо точка соприкосновения мира улицы и классической литературы, подчеркивает Бирд. Встречаются и другие, далеко не столь изящные надписи, больше похожие на те, что украшают стены современных общественных уборных: «Я оприходовал хозяйку», – извещает некий помпеец на стене таверны.
I век до нашей эры был веком надежды для писателей. Многие произведения копировались и распространялись по всей огромной империи, попадали в сеть публичных и частных библиотек, какой мир раньше не видывал, а также в школы. Возможно, впервые в истории наиболее популярные авторы могли не без оснований рассчитывать на далекое будущее. Но для этого требовалось попасть в списки. В одном из самых откровенных образчиков римской тяги к канону Гораций без обиняков просит своего покровителя Мецената включить его в число лучших: «Если ж ты сопричтешь к лирным певцам меня, / Я до звезд вознесу гордую голову». Глаголом inserere – «сопричесть» – он переводил греческое enkrínein – «отделять зерна от плевел, просеивать», – которым александрийские библиотекари метафорически обозначали процесс отбора книг. Окрыленный успехом Гораций считал себя достойным коллегой знаменитых девяти греческих поэтов-лириков и не стеснялся поделиться этим объективным мнением с читателями. В той же книге од он пишет, что его стихи, написанные на хрупком папирусе, проживут дольше, чем металл и камень:
Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой
Не разрушат его, не сокрушит и ряд
Нескончаемых лет – время бегущее.
Нет, не весь я умру.
Несколько лет спустя Овидий с такой же уверенностью говорит о бессмертии своих «Метаморфоз»:
Вот завершился мой труд, и его ни Юпитера злоба
Не уничтожит, ни меч, ни огонь, ни алчная старость.
Немного самонадеянные, на первый взгляд, пророчества, но пока что, как видим, они сбываются.
Однако не все писатели смели верить, что жизнь их книг будет долгой. Марциал, которого в школах не проходили, фантазировал более пессимистично. В «Эпиграммах» он посмеивается над судьбой отверженных книг, исключенных неудачниц: morituri te salutant. Многие – делится с нами Марциал – превратились в кульки для еды или во что похуже. И такая же участь подстерегает его собственную книгу:
Добывай покровителя скорее,
Чтобы в черную кухню не попасться
И тунцам не служить сырой оберткой
Иль мешочком для ладана и перца.
В стихах Марциала целая россыпь забавных образов книжек, оказавшихся не у дел: свитки служат тогами тунцам, туниками маслинам, накидками сыру. Видимо, автор страшился попасть в эту литературную преисподнюю, где воняет протухшей рыбой и повсюду очистки чешуи.
Веками лавочники заворачивали товар в страницы, вырванные из старых книг. Мечты писателя и труды переписчика – а позднее печатника – оказывались в пошлом царстве торговли. Сервантес в «Дон Кихоте» вторит Марциалу, только в его истории конец счастливый. В самом начале романа, в смелой метанарративной главе повествователь бродит по лавочкам на улице Алькана в Толедо. Мимо проходит мальчишка, он несет кипу старых бумаг торговцу шелком. Рассказчик еще не знает, что среди этих старых бумаг – история приключений Дон Кихота Ламанчского: «А как я большой охотник до чтения и читаю все подряд, даже клочки бумаги, подобранные на улице, то, побуждаемый врожденною этою склонностью, взял я у мальчика одну из тетрадей». Благодаря любопытству этого читателя-экстремала рукопись избегает «оберточной» судьбы и роман продолжается. Этот эпизод – литературная игра, выдумка Сервантеса на мотив найденной рукописи, столь частый в рыцарских романах. Образ мальчика, продающего старую бумагу в лавках Алькана, дышит повседневностью и
Ознакомительная версия. Доступно 24 страниц из 119