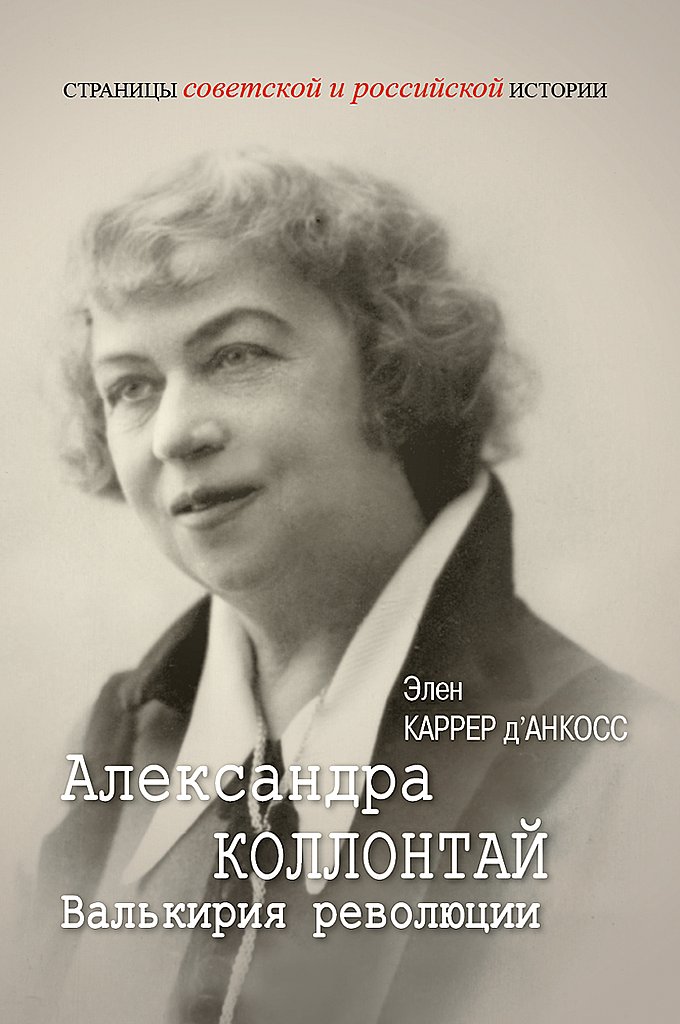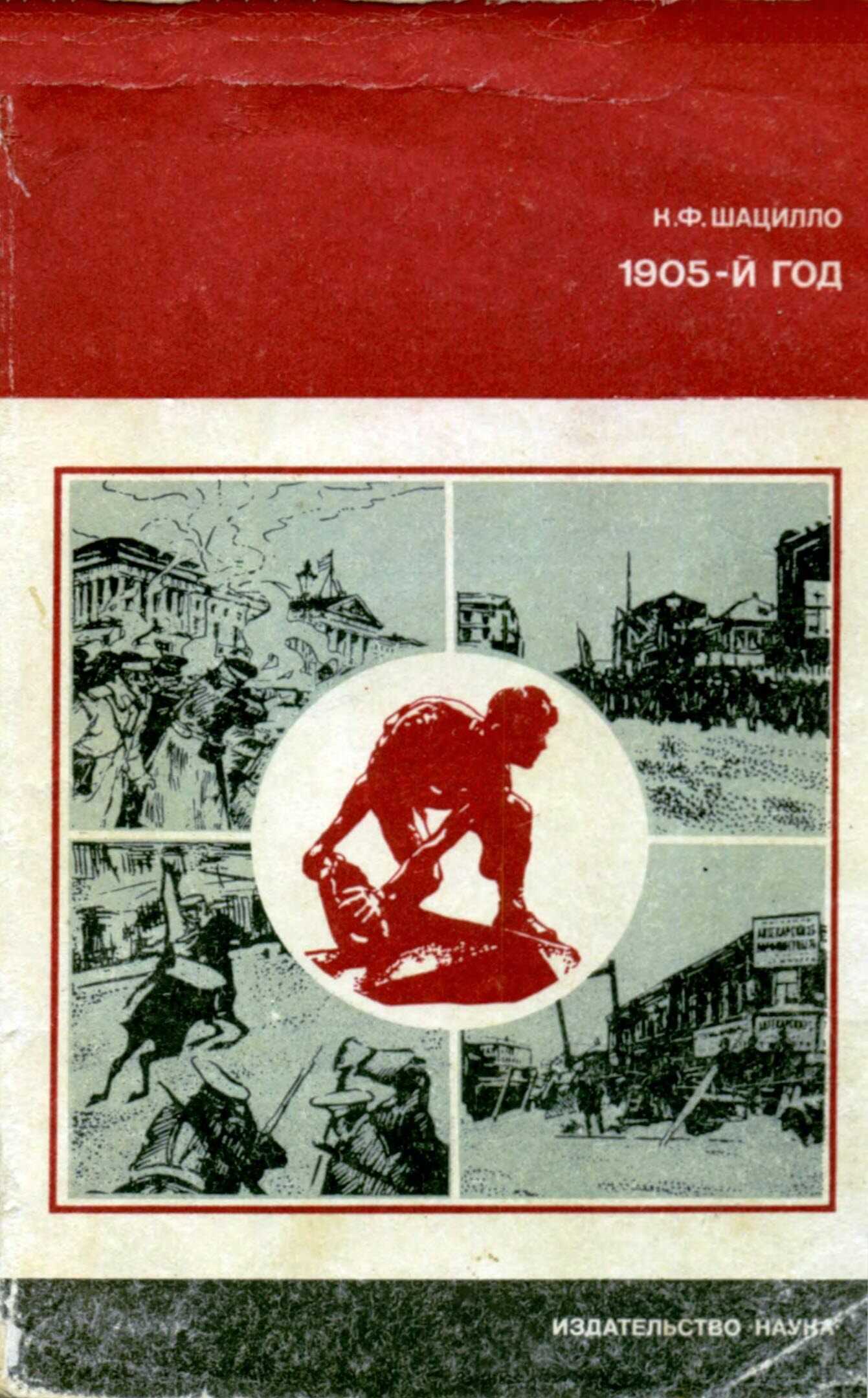XX в. и так далее, вплоть до послевоенной «зелёной революции» в сельском хозяйстве стран «третьего мира» или «сексуальной революции» 1960-х гг. в Америке[325]. Любые внезапные, грубые, глубокие, радикальные изменения какого-либо аспекта человеческой деятельности могут в этом расширенном смысле классифицироваться как «революционные», и ни одна концептуальная сеть никогда не будет достаточно широка, чтобы охватить их все и включить в стройную модель.
Поэтому здесь мы будем двигаться в обратном порядке по сравнению с подобными семантическими и теоретическими упражнениями — от исторических частностей к конечным обобщениям. Это метод в духе принципа Макса Вебера: «Последняя и решающая концепция не может быть задана в начале исследования, а должна появиться в его конце»[326]. Тем не менее такой подход требует предварительной условной намётки целей, методов и процедур исследования.
В данном случае лучше всего начать их намётку с изучения первой исторической частности, связанной с революцией, — процесса формирования самого этого современного концепта. Хотя попытки априори определить, что такое революция, практически неизменно оказывались делом столь же трудным, сколь и бесполезным, проследив, что люди понимали под революцией, мы, по крайней мере, получим возможность предварительно обозначить, чем она фактически может быть. Кроме того, этот опыт концептуальной истории (Begriffsgeschichte) нужно проводить критически — как аналитическое препарирование существующих теорий революции с целью выяснить, что в них работает, а в особенности — что не работает. Задача подобной сортировки заключается в том, чтобы вычленить истинные проблемы, прежде чем придумывать применительно к ним более удачные понятия. Поэтому наша попытка определения методом отрицания примет форму краткой интеллектуальной истории наших представлений о революции за последние два столетия.
Напомним теперь уже хорошо известный факт: хотя слово «революция» весьма древнее, стоящее за ним понятие всецело современное — его появление датируется концом XVIII в.[327] В эпоху поздней Античности существительное «revolution было образовано от латинского глагола «revolvere», означающего «откатиться назад», «вернуться в исходную точку». В этом смысле оно использовалось для обозначения циклических или повторяющихся событий в природе, таких, например, как рост и убывание Луны. Святой Августин, пожалуй, первым употребил его в фигуральном смысле применительно к идее телесного перевоплощения или повторения провиденциальных схем в историческом времени. На протяжении столетий в разных контекстах это слово употреблялось главным образом в значении возвращения или повторения. Такое значение вполне соответствовало досовременному, обращённому в прошлое взгляду на изменения, выраженному и в других терминах: «реформация» (reformatio) и «реставрация» (restoratio) в религии, «возрождение» (rinascita) в искусстве и литературе. До самого конца XVII в. европейцы, даже в периоды особенно интенсивной инновационной деятельности, например в эпоху Возрождения и Реформации, неизменно полагали, что возрождают наследие былого «золотого века» и все их новые начинания, по сути, не что иное, как реставрация.
Наиболее примечательный пример досовременного использования слова «революция» можно найти в астрономии — в «революционном» трактате Коперника 1543 г. «Об обращениях небесных сфер» («De revolutionibus orbium coelestium»). Именно из этого источника термин впервые был перенесён в политический дискурс по случаю «реставрации» Карла II в 1660 г. и прочнее закрепился там в названии английской «Славной революции» 1688 г., которая трактовалась как возврат к «старинной конституции» королевства, якобы нарушенной королём. Затем, в XVIII в., слово «революция» в политической сфере стало все чаще применяться для характеристики любых внезапных или резких перемен в правлении, хотя и без нормативной коннотации.
И лишь в конце столетия, на великом рубеже, отмеченном американской и французской революциями, это слово приобрело противоположный смысл, а его употребление — всемирно-исторические масштабы. В ходе двойного катаклизма 1776 и 1789 гг. революция, некогда подразумевавшая процесс возврата, стала обозначать переворот и радикальное новое начало. И только с момента этого резкого и многообещающего перехода к тому, что мы сегодня именуем современностью, — первого осознанного перехода от старого порядка к новому — можно говорить о революции как об историческом событии особого рода.
Трансформация происходила в два этапа. Американцы начали называть свой мятеж революцией в прежнем смысле — имея в виду восстановление исторических свобод, принадлежащих им как части английской нации. Но в итоге они пришли к независимой республике и с гордостью признали, что создали порядок, не имеющий аналогов не только в английской, но и в мировой истории (эта уверенность питалась и прежним убеждением, что их Новый Свет станет «градом на холме» для Божьих избранников). Ощущение божественного предназначения только укрепилось, когда через каких-то 6 лет их союзница в 1776–1783 гг., Франция, в свою очередь, свергла «тиранию», сделав тем самым борьбу американцев первым эпизодом в череде событий, которые в один прекрасный день должны привести к освобождению всего мира.
Французы с самого начала отдавали себе отчёт в том, что их судорожный «скачок» от королевского абсолютизма к народному суверенитету представляет собой ниспровержение тысячелетнего национального — даже общеевропейского — порядка и что триада «свобода, равенство и братство» универсальна в своём значении. Но в конце десятилетнего пути от конституционной монархии к республике со всеобщим избирательным правом и далее к бонапартистской диктатуре они вдобавок осознали, что революция есть нечто большее: высшее проявление исторического рока, действующего как неодолимая сила природы. Один очевидец говорил о «величественном лавовом потоке революции, который ничего не щадит и который никому не под силу остановить»[328]. С тех пор и телеологический, и разрушительно-созидательный аспекты революции, равно как и насилие, стали неотъемлемыми составляющими частями момента вступления в современность.
Французский случай также снабдил нас первыми терминами для сравнительного исследования революций, зачатками «модели» описания революции как таковой: «якобинство» и «Гора» стали обозначать революционную диктатуру, «болото» — колеблющийся политический центр, «царство террора» — кульминационный кризис революции, «термидор» — начало её конца, «бонапартизм» — полное прекращение. Та же траектория произвела на свет два великих символа революционной поляризации и внутренней войны: красный флаг гражданского насилия и белое знамя репрессий Бурбонов. Всё наше «социологизирование» в XX в. так и не смогло заменить чем-то другим эти спонтанно возникшие исторические категории.
Революция как политическое освобождение
Для историков XIX в. революция была в первую очередь политическим феноменом. Она означала свержение абсолютной монархии божественного права во имя свободы, индивидуальных прав (немаловажную роль среди них играло право собственности), главенства закона и представительного правления. В Англии, где всё это узкому олигархическому кругу дал 1688 г. (в XIX в. его завоевания дополнили билли о реформах 1831, 1867 и 1884 гг.), настоящей революцией всегда оставался этот славный своей умеренностью переворот. Жестокая прелюдия 1640–1660 гг., удостоившаяся почётного места в историографии в XX в., считалась