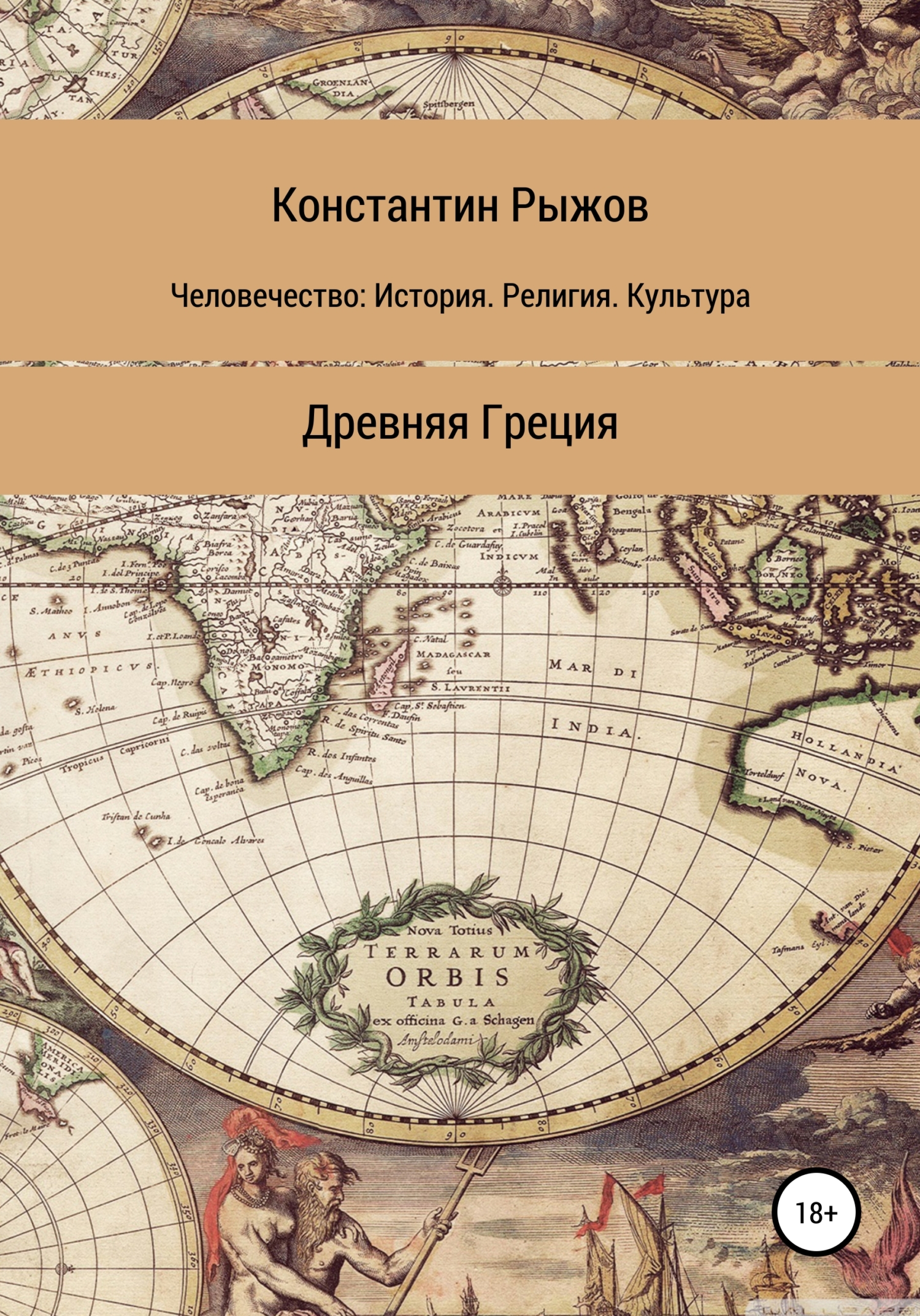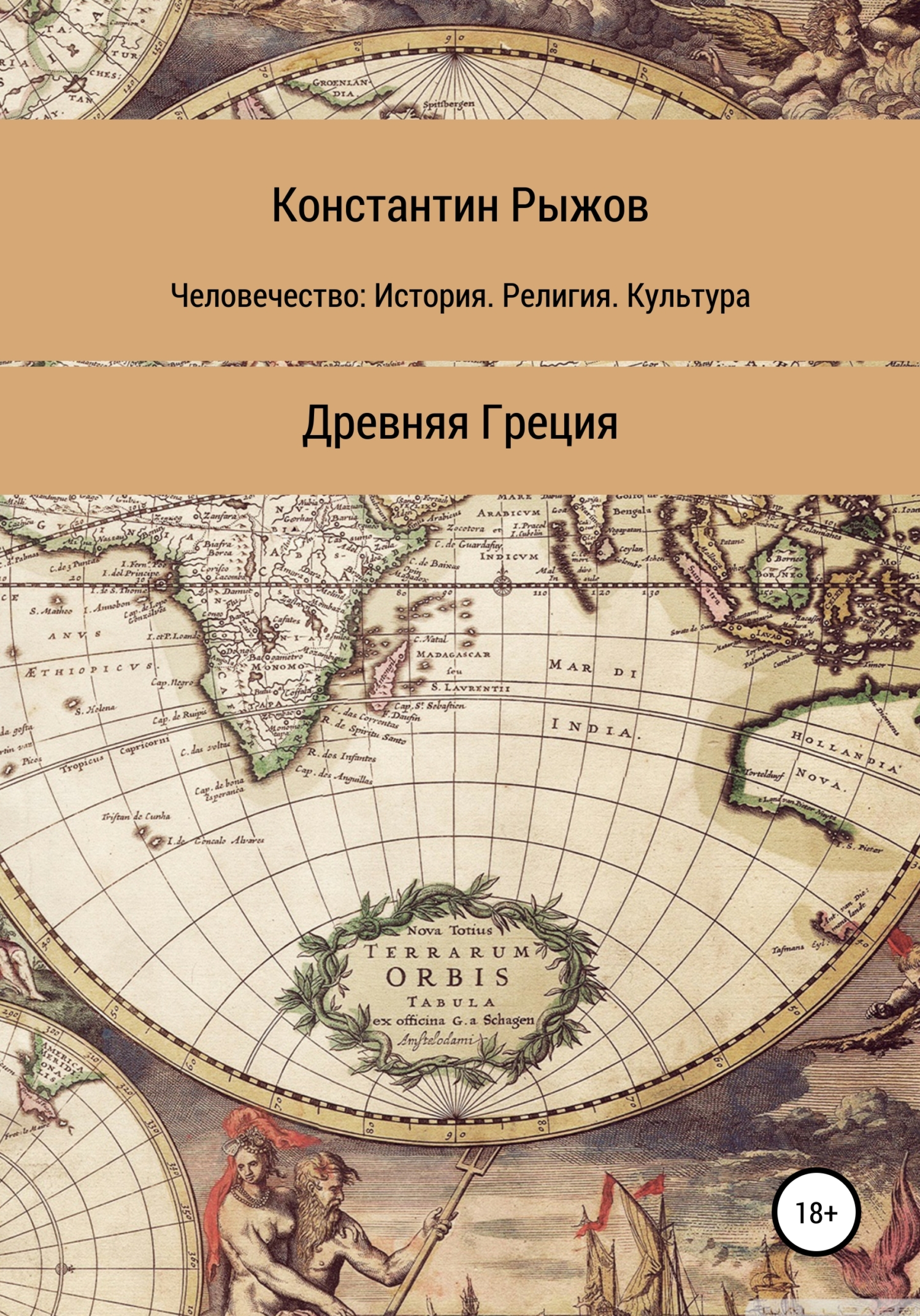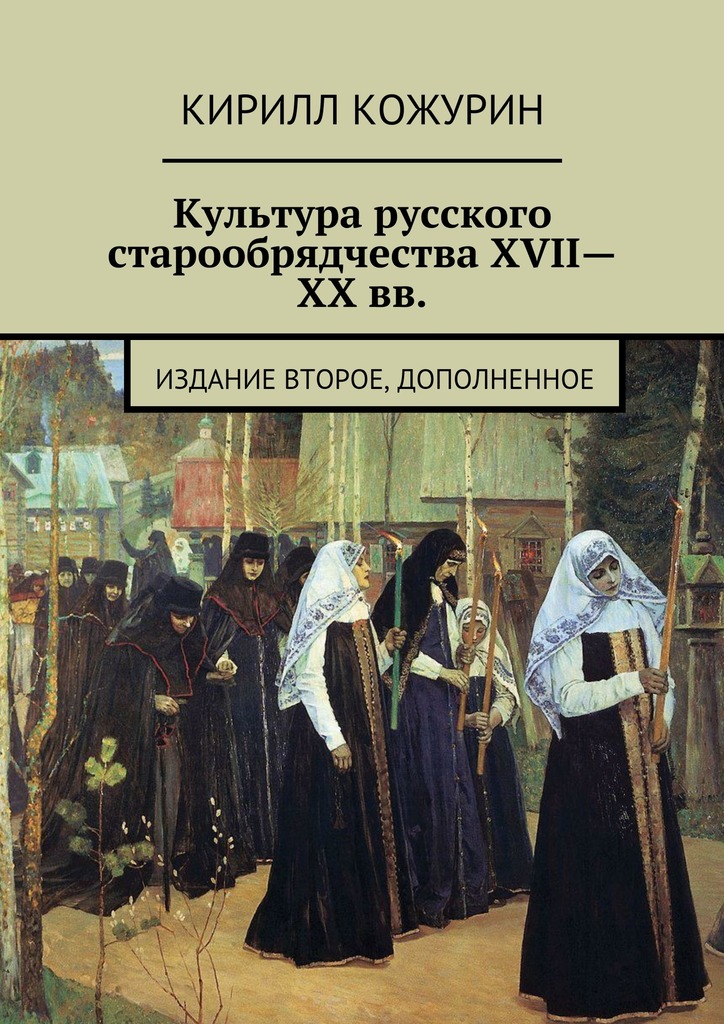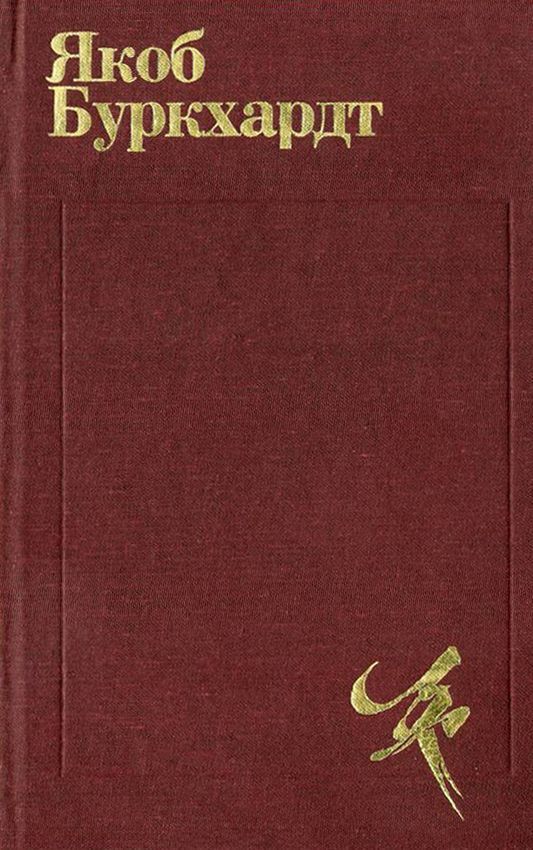Ознакомительная версия. Доступно 28 страниц из 137
широкими рукавами (накапками), которые украшались вышивками и жемчугом. Летники шились из камки, атласа, обьяри, тафты разных цветов, но особенно ценились червчатые; спереди делался разрез, который застегивался до самой шеи. К вороту летника пристегивалось шейное ожерелье в виде тесьмы, обычно черной, вышитой золотом и жемчугом.
Верхней женской одеждой служил длинный суконный опашень, имевший сверху донизу длинный ряд пуговиц – оловянных, серебряных или золотых. Под длинными рукавами опашня делались под мышками прорези для рук, кругом шеи пристегивался широкий круглый меховой воротник, прикрывавший грудь и плечи. Подол и проймы опашня украшались расшитой тесьмой. Широко распространен был длинный сарафан с рукавами или же без рукавов и спереди застегивавшийся сверху донизу пуговицами. Первоначально сарафан был мужской одеждой – в завещании князя Оболенского XVI в. упоминается шелковый сарафан с 23 пуговицами, есть сарафаны и в перечне одежд царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. На сарафан надевалась телогрея, у которой рукава суживались к запястью; шилась эта одежда из атласа, тафты, алтабаса (золотым или серебряная ткань), байберека (крученый шелк).
Жители Москвы
Теплые телогреи подбивались куньим или собольим мехом. Собольи меха ценились по густоте, черноте, длине ворса и времени, когда зверь был убит. В XVII в. некоторые собольи меха продавались в Москве по 100 рублей и дороже (астрономическая сумма), самые дешевые стоили рубль. Для женских шуб употреблялись различные меха: куница, соболь, лисица, горностай и более дешевые – белка, заяц. Шубы покрывались сукном или шелковыми материями разных цветов. В XVI в. принято было шить женские шубы белого цвета, но в XVII в. их стали покрывать цветными тканями. Сделанный спереди разрез с нашивками по сторонам застегивался пуговицами и окаймлялся расшитым узором. Лежавший вокруг шеи воротник (ожерелье) делался из другого меха, чем шуба; например, при куньей шубе – из черно-бурой лисы.
Украшения на рукавах могли сниматься и хранились в семье как наследственная ценность. Знатные женщины в торжественных случаях надевали на свою одежду приволоку, то есть безрукавную накидку червчатого цвета, из золотной, сребротканой или шелковой материи, богато разукрашенной жемчугом и драгоценными камнями. Стоит упомянуть, что шубы тогда носили иначе, нежели сейчас, – мехом внутрь, а не наружу, а кожу, которая оказывалась снаружи, покрывали красками и роскошными тканями. Поэтобы был термин «голая шуба», то есть никак не украшенная. Меховая одежда носила общее название «мягкая рухлядь» («Взяли серьги жемчужные, сороку золотную и всю платеную и мягкую рухлядь» (1660 г.). При этом термин «рухлядь» имел не современное значение (рассыпающееся от времени старьё), а «движимое имущество», «пожитки», «товар».
На голове замужние женщины носили волосники в виде маленькой шапочки, которая у богатых женщин делалась из золотной или шелковой материи с украшениями на ней. Волосы женщины не должен был видеть никто, и поэтому снять волосник и «опростоволосить» женщину значило нанести ей большое бесчестье. Сверх волосника голову покрывали белым платком (убрусом), концы которого, украшенные жемчугом, завязывались под подбородком. При выходе из дома замужние женщины надевали кику, окружавшую голову в виде широкой ленты, концы которой соединялись на затылке; верх покрывался цветной тканью; передняя часть (очелье, чело) богато украшалась жемчугом и драгоценными камнями; очелье могло отделяться или прикрепляться к другому головному убору, смотря по надобности. Спереди к кике подвешивались спадавшие до плеч жемчужные нити (поднизи), по четыре или по шесть с каждой стороны. Выезжая из дома, женщины поверх убруса надевали шляпу с полями и со спадавшими красными шнурами или черную бархатную шапку с меховой оторочкой.
Кокошник служил головным убором женщинам и девушкам и имел вид опахала или веера, прикрепленного к волоснику. Очелье кокошника вышивалось золотом, жемчугом или разноцветным шелком и бисером. В одном из описаний XVII в. есть подробный перечень украшенных кокошников: «Восемь кокошников, в том числе один объяринный на золоте, жаркий, шит золотом и серебром с каменьем, новый кокошник же алтасный, зеленый, шит золотом, ветхий кокошних же объяринный, песочный, на золоте, шит золотом и серебром, кокошник тафтяный, алый, с галуном серебряным, кокошник тафтяной голубой, с галуном серебряным, кокошник атласный, красный».
Девицы носили на головах венцы, к которым прикреплялись жемчужные или бисерные подвески (рясы) с драгоценными камнями. Девичий венец всегда оставлял открытыми волосы, что являлось символом девичества. К зиме девушкам из богатых семей шили высокие собольи или бобровые шапки (столбунцы) с шелковым верхом, из-под которого на спину спускались распущенные волосы или коса с вплетенными в нее красными лентами. Девушки из небогатых семей носили повязки, которые суживались сзади и спадали на спину длинными концами.
Женщины и девушки всех слоев населения украшали себя разнообразными серьгами – медными, серебряными, золотыми, с камнями драгоценными и полудрагоценными. Украшением для рук служили браслеты с жемчугом и камнями, а для пальцев – перстни и кольца, золотые и серебряные, с мелким жемчугом. Шейным женским украшением было монисто, состоявшее из драгоценных камней, золотых и серебряных бляшек и жемчуга. Нередко во время свадьбы или других торжеств на женщине было одето столько украшений и платьев, что она не могла стоять дольше нескольких минут и вынуждена была садиться. Известно, что на богатое свадебное платье нередко тратилось до 20 кг одного только жемчуга. Так, свадебное платье второй жены царя Алексея Михайловича Натальи Кирилловны было настолько тяжело, что после свадебных торжеств у нее долго болели ноги.
В Средневековье считалось, что быть красивой это значит быть полной женщиной, нарумяненной и накрашенной – худоба нередко считалась признаком плохого здоровья. Поэтому многие женщины, от природы не склонные к полноте, стремились любой ценой ее достичь, для чего лежали целыми днями в постели без движения, спали как можно больше, ели и пили ту еду и напитки, которые, как считали, способствуют полноте. Иностранные источники свидетельствуют, что женщины и девушки средневековой Руси имели средний рост, гармоничное сложение, были «нежны лицом» и все без исключения красились.
Путешественник Ганс Мориц Айрман писал: «А если немногим упомянуть жён и женщин московитов, то таковые с лица столь прекрасны, что превосходят многие нации. И самих их редко кто может превзойти – если только посчастливится увидеть их, ибо они столь бережно содержатся в Москве и не могут показываться так публично, как у нас. Они ходят постоянно покрытыми (платком), как, по-видимому, и дома, а поэтому солнце и воздух не могут им повредить; но, кроме того, они не удовлетворяются естественной красотой, и каждый день они красятся; и эта привычка обратилась у них в добродетель и обязанность». Обычай краситься любой женщине был настолько прочен, что, когда жена московского вельможи князя Ивана Борисовича Черкасова, красавица собой, не захотела краситься, жены других бояр убедили ее не пренебрегать обычаем родной
Ознакомительная версия. Доступно 28 страниц из 137