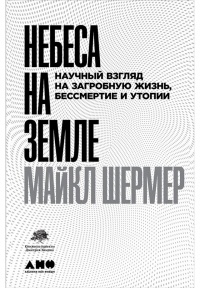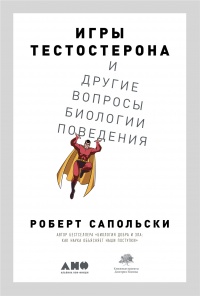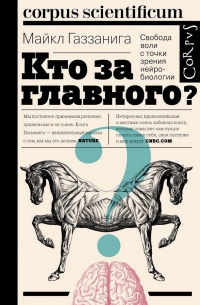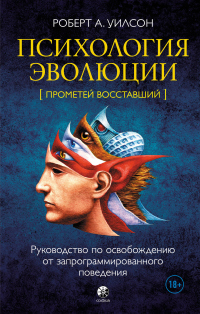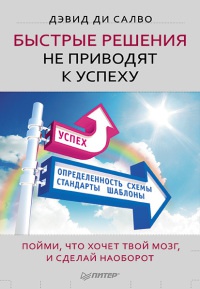Блеск и нищета чисто эмпирического подхода
Вся интеллектуальная динамика напоминает движение маятников в ментальном пространстве, колебания между крайностями, а затем попадание в более узкую колею диапазона умозаключений. Поэтому битва книг продолжалась как колебания между авторитетом и эмпирическим подходом, со временем ситуация стабилизировалась, и сегодня мы (надеюсь) признаем важность и данных, и теории. Именно Галилей первым открыл этот принцип маятника, поэтому в моем выборе здесь этой метафоры есть доля иронии. Какую бы роль ни играли его эмпирические открытия в опровержении авторитетных догм былых столетий, когда речь зашла о наблюдениях за планетой Сатурн, Галилей стал жертвой собственных когнитивных ограничений и воображения.
Понаблюдав в крошечный телескоп за Сатурном, самой удаленной на тот момент планетой из числа известных, Галилей писал своему коллеге, астроному Иоганну Кеплеру: «Altissimum planetam tergeminum observavi» – «Самую дальнюю планету я наблюдал тройной». Затем он объяснил, что имел в виду: «То есть к моему великому изумлению Сатурн показался мне не единой звездой, а тремя сразу, почти соприкасающимися друг с другом». Он видел Сатурн не как планету с кольцами, какой мы видим ее сегодня даже в самые маленькие домашние телескопы, а как одну большую сферу, окруженную двумя маленькими сферами, чем объяснялась ее вытянутая форма.
Почему же Галилей, поборник наблюдений и индукции, совершил эту ошибку? Восхваляя эмпирический подход как обязательное условие науки, нам следует признать его ограничительные эффекты. Ошибка Галилея поучительна в том, что касается представлений о взаимодействии данных и теории, а когда речь шла о Сатурне, у Галилея не было ни того, ни другого. Данные: Сатурн находится в два раза дальше, чем Юпитер, поэтому те немногие фотоны света, которые проникали сквозь мутноватое стекло маленького телескопа, в лучшем случае затрудняли изучение колец. Теория: теории планетарных колец не существовало. Именно в случае сочетания несуществующей теории с неясными данными сила убеждения находится в зените, разум сам заполняет пробелы. Подобно Колумбу до него, Галилей сошел в могилу убежденный не в том, что на самом деле видели его глаза, а в том, что он видел согласно подсказкам его модели мира. В буквальном смысле слова перед нами случай «я не увидел бы этого, если бы не верил в него».
Галилей не мог «увидеть» кольца Сатурна ни непосредственно, ни теоретически, но определенно что-то видел, в этом и заключается проблема. Altissimum planetam tergeminum observavi. Как отмечал гарвардский специалист по теории эволюции и истории науки Стивен Джей Гулд в своих проницательных комментариях о наблюдениях Галилея за Сатурном, «он не отстаивает свое решение, утверждая «я полагаю», «согласно моей гипотезе», «по-видимому» или «мне кажется, наилучшим истолкованием будет…» Вместо этого он дерзко пишет «observavi» – «я наблюдал». Ни одно другое слово не передало бы с той же лаконичностью и точностью важную перемену в концепции и методе (не говоря уже об этической оценке), которой ознаменовался переход к науке, называемой нами «современной».[353]
Галилей часто возвращался к наблюдениям за Сатурном, и хотя так и не увидел то же самое зрелище во второй раз, он непреклонно придерживался своих изначальных наблюдений и выводов. В 1613 году в своей книге о пятнах на Солнце Галилей писал: «Я решил не размещать вокруг Сатурна ничего, кроме того, что я уже наблюдал и открыл, то есть двух маленьких звезд, касающихся его с востока и с запада». В ответ на возражение коллеги-астронома, предположившего, что речь может идти об одном удлиненном предмете, а не о трех сферах, Галилей похвалился своими превосходными навыками наблюдателя за «формой и различиями между тремя недостаточно хорошо видными звездами. Я наблюдал их тысячи раз в различные периоды с помощью совершенного прибора и смею вас уверить, что никаких изменений в них не произошло».
Однако в следующий раз, направив свой телескоп на Сатурн перед самой публикацией собственной книги о пятнах на Солнце, Галилей увидел нечто совершенно иное.
Но в последние несколько дней я вернулся к нему и обнаружил его одиночным, без ранее окружавших звезд, и таким же идеально круглым и четко очерченным, как Юпитер. Так что же можно сказать об этой удивительной метаморфозе?.. В самом ли деле это была иллюзия, и линзы моего телескопа так долго обманывали меня – и не только меня, но и многих других, кто вел наблюдения вместе со мной?.. Не могу сказать ничего определенного о столь удивительном и неожиданном событии; оно еще слишком свежо, является единственным в своем роде, и меня сковывают собственная несостоятельность и боязнь ошибиться.[354]
Рис. 16. Сатурн Галилея как «свидетельство, образ, рисунок, графическое изображение, слово, существительное».
Страница из книги Галилея о пятнах на Солнце (1613 год), в которой он возвращается к загадке Сатурна и снова приходит к выводу, что с самого начала был прав и что Сатурн действительно состоит из трех частей. Источник: Galileo Galilei, Istoria e dimonstrazioni intorno alle macchie solari, Rome, 1613, с. 25. Воспроизведена в Эдвард Тафти, «Прекрасное свидетельство» (Edward Tufte, Beautiful Evidence, Cheshire, Conn.: Graphics Press, 2006), с. 49.
Тем не менее в своей книге Галилей заключил: несмотря на новые данные, его первоначальная теория увиденного верна. Почему? Ответ можно обнаружить в визуальном представлении этих данных.
Выдающийся специалист по визуальному представлению количественной информации Эдвард Тафти отмечает в своей книге 2006 года «Прекрасное свидетельство» (Beautiful Evidence), приводя страницу из труда Галилея, опубликованного в 1613 году и посвященного пятнам на Солнце (рис. 16), что «Галилей сообщил о своем открытии необычной формы Сатурна, воспользовавшись 2 визуальными существительными, сравнивающими четкое и мутное изображение, видимое в телескоп. В труде Галилея «Письма о солнечных пятнах» (Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari, 1613) слова и изображения в сочетании становятся скорее просто свидетельством, чем разными видами свидетельств». Перевод текста на рис. 16, сопровождаемый двумя крошечными изображениями Сатурна, гласит: «Форма Сатурна такова * при отличной видимости и совершенных приборах, но выглядит такой ** при видимости и приборах, далеких от идеала; форму и различия трех звезд трудно разглядеть». Тафти называет эту фразу «лучшим из существующих аналитических методов», поскольку в ней представлен «Сатурн как свидетельство, образ, рисунок, графическое изображение, слово, существительное».[355] Несмотря на сравнительно недавние наблюдения, в ходе которых «три звезды» стали «одиночным» Сатурном и «таким же идеально круглым и четко очерченным, как Юпитер», образ, рисунок, графическое изображение, слово и существительное Галилея остались неизменными, свидетельствуя о правильности его первоначальных наблюдений. Галилей так и не отказался полностью от своих первых определенных выводов.