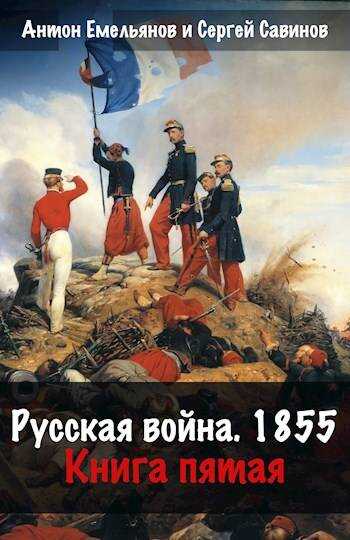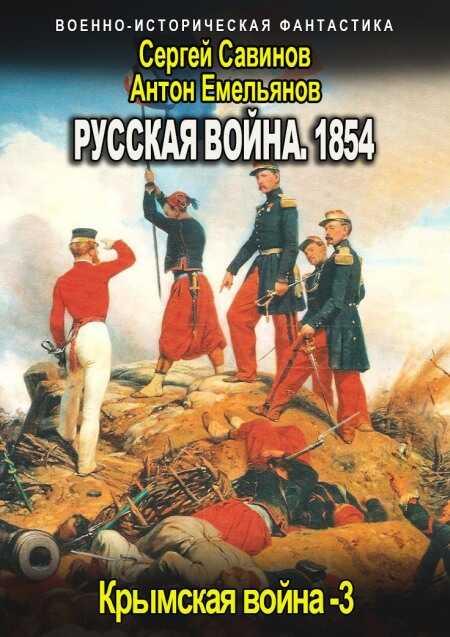такая позиция Сталина не пользовалась всеобщей поддержкой на «национальных окраинах». Если договор с Азербайджаном 1920 года, предусматривавший скорейшее соединение органов управления в военной, экономической, финансовой областях, а также почты и транспорта, позволял расценивать положение Азербайджана как автономии РСФСР, то заключение подобного договора с Украиной в конце 1920 года натолкнулось на препятствия. В результате ведение вопросов армии и военно-морского флота, народного хозяйства, финансов, внешней торговли, труда, связи, транспорта поручалось объединенным народным комиссариатам РСФСР и УССР. Их представители входили в состав совнаркомов двух республик. Совершенно ясно, что нельзя было говорить о том, что Украина являлась «автономией» России.
По оценке английского историка Карра, некоторые договоры, заключенные между РСФСР и рядом других республик (Белоруссия, Армения, Грузия), приближались к «азербайджанской» модели, а другие – к «украинской». Наконец, договоры, заключенные РСФСР с Хорезмом и Бухарой, предусматривали лишь военно-политический союз, но в них не говорилось об объединении наркоматов.
Правительства некоторых советских республик оказывали упорное сопротивление планам экономической и политической интеграции с другими советскими республиками. Руководство Грузии (Б. Г. Мдивани, М. С. Окуджава, Л. Е. Думбадзе и другие) выступали за сохранение во всех закавказских республиках своих армий, своей валюты, свободы внешней торговли. Они требовали выхода закавказских компартий из РКП(б). О своем нежелании объединяться в единый союз свидетельствовали такие действия руководства Грузии, как запреты на заключение браков между гражданами Грузинской ССР и гражданами других советских республик. Возмутительным стало распоряжение грузинских властей выставить пулеметные патрули на границах Грузинской ССР, чтобы не допустить перехода границ голодающими из Поволжья.
Вопреки сопротивлению сепаратистов Сталин настаивал на создании общесоюзного аппарата управления, контролирующего не только вопросы внешней политики и обороны, но также экономику, финансы, связь, транспорт. Противники Сталина старались заручиться поддержкой в Москве и прежде всего со стороны Троцкого, который готов был им помочь. Созданная по инициативе Троцкого комиссия по расследованию конфликтов между центральным руководством и местными правительствами (в ее состав входили управляющий делами Совнаркома Горбунов, секретари Ленина Фотиева, Гляссер и другие) представила Ленину дело так, что суть возникших разногласий сводится к нетактичному поведению Сталина, Орджоникидзе и Дзержинского в отношении руководства Грузии.
Правда, уже через месяц после доклада комиссии Ленину ее член М. Гляссер признавала, что Ленин превратно понял и без того одностороннюю информацию и «благодаря болезни был не прав по отношению к т. Сталину… Особенно тяжело потому, что за два с половиной года работы в Политбюро я, близко видя работу Политбюро, не только научилась глубоко ценить и уважать всех вас, в частности, Сталина (мне стыдно смотреть на него теперь), но и понимать разницу между линией Вл. Ил-ча и Троцкого».
На основе представленной односторонней и поверхностной информации Ленин пришел к выводу о «великодержавном уклоне» Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе. Опасаясь, что бестактность в отношении национальных меньшинств может спровоцировать среди них взрыв протеста, Ленин заявлял: «Интернационализм со стороны угнетающей или так называемой «великой» нации (хотя великой только своими насилиями, великой так, как велик держиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации угнетающей, нации большой то неравенство, которое складывается в жизни фактически. Кто не понял этого, тот не понял действительно пролетарского отношения к национальному вопросу, тот остался, в сущности, на точке зрения мелкобуржуазной и поэтому не может не скатываться ежеминутно к буржуазной точке зрения».
В апреле 1923 году Сталин и Орджоникидзе опровергли обвинения в их адрес, выдвинутые Мдивани. Еще позже, через два года после смерти Ленина, Сталин заявил: «Тов. Ленин перед ХII съездом нашей партии упрекал меня в том, что я веду слишком строгую организационную политику в отношении грузинских полунационалистов, полукоммунистов типа Мдивани,… что я «преследую» их. Однако последующие факты показали, что так называемые «уклонисты», лица типа Мдивани, заслуживали на самом деле более строгого отношения к себе, чем это я делал, как один из секретарей ЦК нашей партии. Последующие события показали, что «уклонисты» являются разлагающейся фракцией самого откровенного оппортунизма… Ленин не знал и не мог знать этих фактов, так как болел, лежал в постели и не имел возможности следить за событиями».
Однако в 1922 году Ленин не ограничился суровой критикой в адрес Сталина, Дзержинского, Орджоникидзе, но и осудил планы создания Советского Союза на тех принципах, которые проводил Сталин. В своих заметках «К вопросу о национальностях или об «автономизации», продиктованных М. Володичевой 30–31 декабря 1922 года, Ленин сожалел, что раньше «не вмешался в пресловутый вопрос об автономизации, официально называемый, кажется, вопросом о союзе советских социалистических республик». Опасаясь, что «свобода выхода из союза, которой мы оправдываем себя, окажется пустой бумажкой», Ленин предлагал объединить советские республики «лишь в отношении военном и дипломатическом».
Эти планы не были осуществлены. Когда Ленин 30 декабря 1922 года начал диктовать свои заметки, в Большом театре уже открылся I съезд Советов СССР. Договор о создании СССР, заключенный 30 декабря 1922 года представителями России, Украины, Белоруссии и Закавказской федерации, предусматривал не только военно-политический союз. Теперь ведению верховным органам СССР подлежали: «установление систем внешней и внутренней торговли,…основ и общего плана всего народного хозяйства Союза… регулирование транспортного и почтово-телеграфного дела… утверждение единого государственного бюджета… установление денежной и кредитной системы, а также системы общесоюзных, республиканских и местных налогов… общих начал землеустройства и землепользования… основ судоустройства и судопроизводства… основных законов о труде,…общих начал народного просвещения… общих мер в области охраны народного здоровья» и многое другое. Договор определял также порядок формирования высших органов законодательной и исполнительной власти СССР.
В своем выступлении на I съезде Советов СССР 30 декабря 1922 года Сталин высоко оценивал создание СССР: «В истории Советской власти сегодняшний день является переломным… Период борьбы с военной разрухой дал нам Красную Армию – одну из основ существования Советской власти. Следующий период – период борьбы с хозяйственной разрухой – дает нам новые рамки для государственного существования – Союз Советских Социалистических Республик, который, без сомнения, подвинет вперед дело восстановления советского хозяйства».
Сталин видел в СССР свидетельство перехода от «разрушительного» периода к периоду «созидательному». «Нас, коммунистов, – говорил он, – часто ругают, утверждая, что мы неспособны строить… Пусть сегодняшний съезд Советов, призванный утвердить Декларацию и Договор о Союзе Республик, принятые вчера конференцией полномочных делегаций, пусть этот союзный съезд покажет всем тем, кто еще не потерял способность понимать, что коммунисты умеют так же хорошо строить новое, как они умеют хорошо разрушать старое».
«Нет у революции конца!»
Противники Октябрьской революции с самого