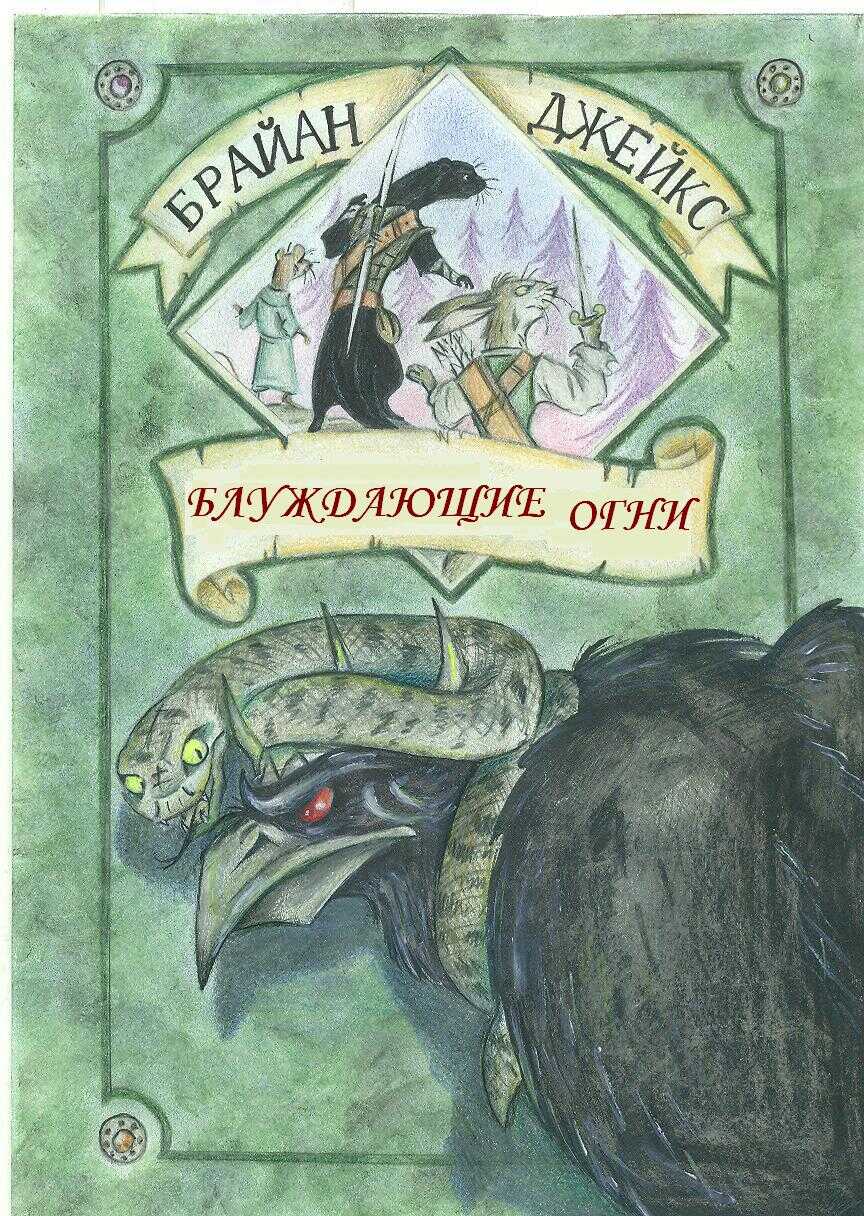в глубину обороны и гулкие удары рвущихся снарядов зачастили по горящему хутору и еще дальше, где-то по мелкорослому и редкому дубняку луговой поймы, – Звягинцев, осунувшийся и постаревший за эти злосчастные полчаса, механическим движением надел каску, вытер рукавом запыленные затвор и прицельную рамку винтовки, выглянул из окопа.
Вдали, перевалив через высотки, под прикрытием танков, густыми цепями двигалась немецкая пехота. Звягинцев услышал смягченный расстоянием гул моторов, разноголосый рев идущих в атаку немецких солдат и как-то незаметно для самого себя поборол подступившее к горлу удушье, весь подобрался. Хотя сердце его все еще продолжало биться учащенно и неровно, но от недавней беспомощной растерянности не осталось и следа. Мягко ныряющие на ухабах танки, орущие, подстегивающие себя криком немцы – это была опасность зримая, с которой можно было бороться, нечто такое, к чему Звягинцев уже привык. Здесь в конце концов кое-что зависело и от него, Ивана Звягинцева; по крайней мере он мог теперь защищаться, а не сидеть сложа руки и не ждать в бессильном отчаянии, когда какой-нибудь одуревший от жары, невидимый немец-наводчик прямо в окопе накроет его шалым снарядом…
Звягинцев глотнул из фляги теплой, пахнущей илом воды и окончательно пришел в себя: впервые почувствовал, что смертельно хочет курить, пожалел о том, что теперь уже не успеет свернуть папироску и затянуться хотя бы несколько раз. Вспомнив только что пережитый им страх и то, как молился, он с сожалением, словно о ком-то постороннем, подумал: «Ведь вот до чего довели человека, сволочи!» А потом представил язвительную улыбочку Лопахина и тут же предусмотрительно решил: «Об этом случае надо приправить молчок – не дай бог рассказать Петру, он же проходу тогда не даст, поедом съест! Оно, конечно, мне, как беспартийному, вся эта религия вроде бы и не воспрещается, а все-таки не очень… не так, чтобы очень фигуристо у меня получилось…»
Он испытывал какое-то внутреннее неудобство и стыд, вспоминая пережитое, но искать весомых самооправданий у него не было ни времени, ни охоты, и он мысленно отмахнулся от всего этого, конфузливо покряхтел, со злостью сказал про себя: «Эка беда-то какая, что помолился немножко, да и помолился-то самую малость… Небось нужда заставит, еще и не такое коленце выкинешь! Смерть-то, она – не родная тетка, она, стерва, всем одинаково страшна – и партийному, и беспартийному, и всякому иному прочему человеку…»
О. А. Рябов
Из военного дневника отца
Война поколебала прежде незыблемые устои советского государства. В коммунистическую партию на передовой принимали уже не благодаря знанию ее устава и программы или социальному происхождению, а по тому, как человек служил Родине, насколько ответственно он исполнял свой солдатский долг перед народом.
28.11.42 г. Теперь я коммунист! Два месяца назад… меня разыскал политрук со словами: «Нам, Рябов, надо серьезно поговорить. Пойдем погуляем!»
Мы отошли к лесу и по дороге он сказал, чтобы я написал заявление с просьбой принять меня в партию, на что я ответил: «У меня отец арестован как враг народа».
Мой собеседник жестко парировал: «Это там на гражданке пускай разбираются, а здесь идет война, и ты, Рябов, нужен партии! Понимаешь, всех людей можно разделить, независимо от происхождения, образования, положения в обществе, на тех, кто считает, что им все должны и тех, кто считает, что сами всем должны: должны помогать, должны руководить, должны нести ответственность. Должны служить Родине! И это самое главное! Институт дворянства уничтожен, и это правильно: дворянство выродилось и перестало должным образом служить Отечеству, что являлось его основной обязанностью. На фронтах империалистической войны трудно было найти столбовых дворян. Но во все времена на Руси существовала надсоциальная и надклассовая прослойка народа, глубоко преданного Родине. Сейчас эти люди в коммунистической партии».
Его слова убедили меня: наш дед был дворянин, а папа – член ВКП(б) с 1907 года.
$$!(Четыре с лишним года. Военный дневник, с. 93–94)
Из дневника Федора Никонова
Строки не вернувшегося с войны солдата показывают, что заветы предков постепенно припоминались, обретали новое звучание на полях сражений.
4. XI. 1942 г. Кончится война, пройдут годы, и мы сами себе не будем верить, сколько поизмесили грязи, а что уж говорить о потомках. Они и представления не будут иметь, что такое солдатская жизнь на войне. Они, поди, будут думать, что тут сплошные героические подвиги (как и я когда-то думал), а солдатский подвиг еще с суворовских времен состоит в преодолении невзгод на войне, а атака – это завершение подвига. Если ты не скис еще до атаки, если у тебя бодрый дух, ты и в атаке победишь, у тебя хватит сил. Солдат, как правило, погибает еще до боя, вернее, обрекает себя еще до первого выстрела. У меня, наверно, хороший характер, я не падал духом даже в самые трудные дни сорок первого.
(Говорят мертвые и живые, с. 80)
1943 год
М. М. Пришвин
Дневники войны
Год, как говорят историки, коренного перелома в войне ознаменовался и завершением перестройки народного сознания. Родина перестала восприниматься в расколотом революцией и гражданской войной обществе с позиции идеи монархической или социалистической, сложившись в мощный символ духовно-почвенной связи, в то, «что в любом испытании у нас никому не отнять». Нельзя не признать, что великая идея родины у значительной части советского населения заменила религиозную идею, которой питалось российское общественное сознание до 1917 года.
16 января. Прошлую кампанию немцы, наступая на Москву, убедились, что прямая не есть кратчайшее расстояние между Москвой и Берлином. В нынешнюю кампанию, 42-го года, они убедились под Сталинградом, что и кривая не есть истинный путь.
5 февраля. «Война учит всех», – пришло мне в голову, когда я снимал за картошку[275] двух мальчишек по 15 лет. У одного были на груди стрелковые ордена[276], и я не знал, как мне с ними быть, потому что в комнате стена мешала отодвинуть аппарат, чтобы могли выйти ордена.
– Что делать, – сказал я, – если снять ордена, то обрежется сверху голова, волосы почти до самого лба, а сохранить голову – срежем ордена.
– Режь голову! – ответил мальчик.
А сколько я их видел таких, идет на войну ярым контрой (контрреволюционером. – сост.), бахвалится, собирается в лес убежать на дезертирское положение, а попал на войну – и там стал героем.
8 февраля. Прошлый год весь народ, как невеста, ждал жениха и в немце видел героя-освободителя. Но жених явился с самыми грубыми требованиями, и разгневанная невеста погнала его, хлопая говеной метлой по заднице. Правда, что же другого осталось русскому человеку: дом разорен и нет ничего, и