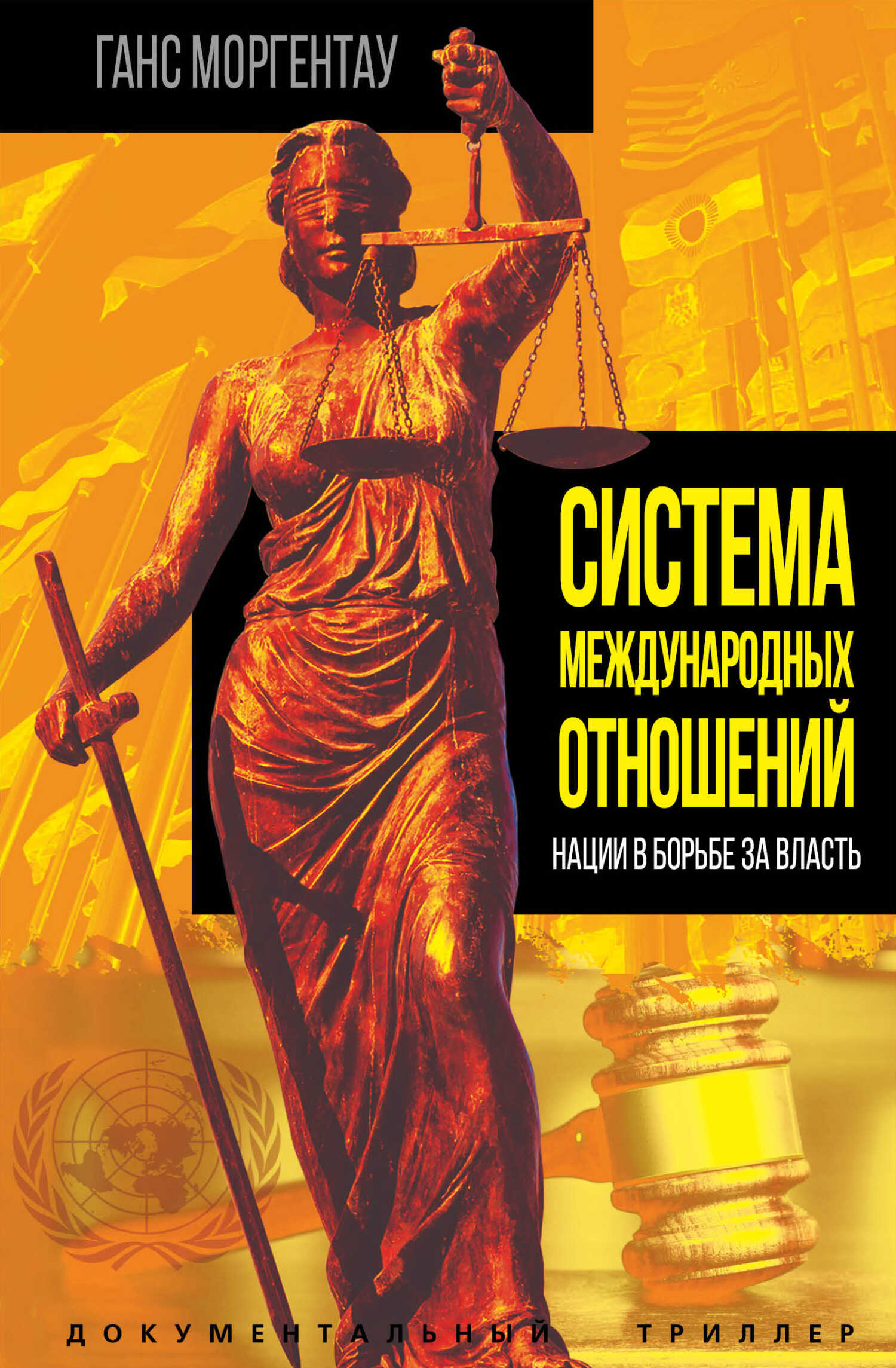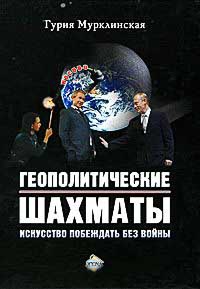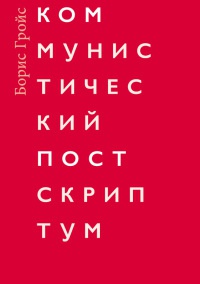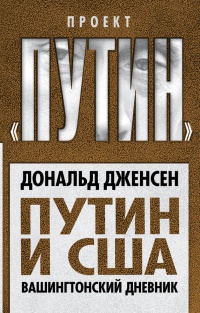как главному политическому органу он остается правоверным ленинцем. Партия, с его точки зрения, обладает исключительной миссией, являясь орудием политического действия и исполняя свою роль – роль руководителя масс в их революции. Это, разумеется, поднимает вопрос об отношениях между крестьянскими массами и партией, если вспомнить о превознесении Мао революционных действий крестьянских ассоциаций в «Крестьянском движении в Хунани» (1927), когда они действовали независимо от партии и ее управленцев.
Ответ на этот вопрос оказывается достаточно сложным, особенно если учесть то, что уже на раннем этапе своей карьеры Мао сам окружил себя культом и использовал его в разные времена, чтобы сокрушить соперников и возможных преемников. Также после создания в 1949 г. КНР он не раз применял популизм против партийной бюрократии, особенно во время «культурной революции». Мао в своей концепции личного вождизма следовал Сталину, но, в отличие от Сталина, остался ленинцем в том, что не ставил под вопрос авторитет партии. От Ленина Мао отличался тем, как именно связывал партию с массами. С точки зрения Ленина, отношения между партией и пролетариатом должны быть иерархическими и центристскими: партия является арбитром сознания пролетариата, а потому и безусловным вождем рабочих. С позиции Мао, между партией и крестьянскими массами устанавливаются более сложные, менее иерархические отношения, проявляющиеся в идее «линии масс», выраженной в следующем отрывке из «Маленькой красной книжицы»:
Во всей практической деятельности нашей партии правильное руководство всегда должно строиться на принципе – черпать у масс и нести в массы. Это значит: суммировать мнения масс (разрозненные и бессистемные) и снова нести их (обобщенные и систематизированные в результате изучения) в массы, пропагандировать и разъяснять их, делать их идеями самих масс, чтобы массы проводили эти идеи в жизнь, претворяли их в действия; вместе с тем на действиях масс проверять правильность этих идей. Затем нужно вновь суммировать мнения масс и вновь нести их в массы для проведения в жизнь – и так без конца. С каждым разом эти идеи будут становиться все более правильными, более жизненными, более полноценными. Этому учит марксистская теория познания [Мао Цзэдун, 1969б, с. 152].
Линия масс – это концепция революционной легитимности определенного курса и действий и в то же время концепция партийной дисциплины. Если говорить о легитимности, массы представляются активным агентом революционных перемен, тогда как партийные кадры должны идти в массы, чтобы учиться у них тому, как двигать революцию вперед. При этом партийные работники должны избегать двух ошибок: «хвостизма» и «командизма». Первый – это представление о том, что партийные кадры всегда должны просто следовать тому, что вроде бы делают крестьянские массы, – так же, как хвост животного всегда следует ему, куда бы оно ни направлялось. Эта ошибка предполагает неверное понимание динамических отношений масс и партии, задача которой – профессионально руководить революцией. Критика «хвостизма» представляет собой также атаку на наивную форму прямой демократии, в которой мнение масс в тот или иной момент времени автоматически становится волей народа, тогда как задача партии – просто принять ее и исполнить. Мао не был демократом. Формирование политической программы – это динамические отношения между массами и партией, в которых партия развивает и систематизирует идеи масс, а потом распространяет их в их среде путем обучения и пропаганды. Важным моментом здесь является близость и связь партии и масс.
Столь же важно избегать и второй ошибки, свойственной технократическим элитам или группам профессиональных революционеров, а именно «командизма». Это представление о том, что партийные кадры или руководство партии играют особую технократическую роль независимо от масс, а потому способны руководить массами, направляя их к их подлинным интересам. Такая ошибка неизменно угрожает ленинистским партиям, которые по определению являются профессиональной революционной элитой. Мао с большим подозрением относился к стремлению революционной интеллигенции захватить партию, а потом и бюрократию, чтобы навязать свои идеи массам, убедив их, что они действительно составляют их классовый интерес. Его опыт общения с крестьянами в Хунани определил популистскую линию, отсутствующую у Ленина и тем более у Сталина (использовавшего тайную полицию в качестве главного орудия внутрипартийной дисциплины). Мао также применял тактики тайной полиции, располагая соответствующим штатом агентов. Однако он сохранял и пестовал прямую линию коммуникации с массами в обход его основных конкурентов, в чем отражалась идея о популистском руководстве, выражающем голос именно народа, а не коррумпированной политической элиты. Именно в этом контексте линия масс становится определенной формой партийной дисциплины.
Утверждение революционного авторитета масс как конечного источника политического курса закреплялось применением переобучения в среде крестьян, а также саморазоблачениями и наказаниями, укорененными в практиках крестьянских ассоциаций. В докладе Мао «О крестьянском движении в Хунани» (1927) в качестве ритуала уничижения была описана коническая бумажная шапочка, которую можно было нередко увидеть во время чисток партийного руководства и бюрократии в период «культурной революции» конца 1960-х годов. Подобным образом и ссылка в сельскую местность, на сельские работы стала стандартным наказанием для партийных работников, у которых были выявлены ошибочные политические взгляды, а также способом дисциплинирования городской молодежи, которую из школ и университетов отправляли работать на поля вместе с крестьянами. Яростное народное насилие часто превозносилось в качестве демонстрации революционного духа масс, но на самом деле Мао всегда тщательно его контролировал. Хотя в его идеях и стиле руководства присутствует безусловная популистская линия, она была призвана усиливать его позицию в рамках партии, а не подрывать положение партии как орудия политического и военного контроля масс.
Несмотря на неизменное прославление масс у Мао, учение о линии масс не освобождает их от партийной дисциплины и не признает народ в качестве абсолютно независимого источника власти. Как и в случае большинства других популистов (которые апеллируют к идеалу народа как основанию их притязания на власть), массы в концепции Мао не наделялись прямой властью, не обладали прямой и сознательной идентичностью, которая бы позволила применять эту власть независимо от партии: «Активность широких масс без сильной руководящей группы, должным образом организующей эту активность, не может ни долго удержаться, ни развиваться в верном направлении» [Мао Цзэдун, 1969б, с. 150–151]. Поэтому Мао остался революционером, стремящимся свергнуть империалистический порядок, что должно было стать условием освобождения масс. К концу его жизни стало ясно, что революция – не просто затянувшееся событие, предшествующее установлению диктатуры пролетариата и социализма. На самом деле она является непрерывным процессом, порождающим в обществе новые противоречия, которые нужно преодолевать в революционной борьбе. Его модель революционной борьбы была неразрывно связана с длинной революционной войной, остававшейся главным содержанием его жизни вплоть до 1949 г.
Насилие и осуществление революции
Возможно, наиболее известной является следующая цитата Мао: «“Винтовка рождает власть” – эту истину должен усвоить каждый коммунист» [Мао Цзэдун, 1969а, с. 282]. В 1960–1970-х годах она стала глобальным революционным лозунгом в новых маоистских группах, созданных на Западе и в развивающихся странах. Они стали ответом не только на империализм США, воевавших с Вьетнамом, но и на окостеневший этатизм СССР. Казалось, что Мао – выразитель подлинного революционного духа, независимого от второразрядного капитализма постсталинского СССР и более подходящего для стремящихся к освобождению народов постколониального мира. Его афоризм отражает ту роль, которую в революции и создании единого государства в Китае сыграла долгая война с Гоминьданом, полевыми командирами и японцами. Однако реалистический тезис Мао – это хорошо знакомый тезис о природе и конституции политической власти в силовом конфликте.
С середины 1920-х и до конца 1940-х годов Китай был страной, находящейся в постоянном состоянии войны. Но и в предшествующие полвека (1859–1916) в Китае почти никогда не бывало периодов устойчивого гражданского мира, что было обусловлено войнами и восстаниями, ставшими характерной чертой упадка династии Цин, а также вторжениями иностранных войск и хаосом первого республиканского режима Юань Шикая. Соответственно, китайская революция не была восстанием в стабильном капиталистическом государстве; она произошла на территории, где действовало правительство со спорной легитимностью, куда вторгались европейские державы и где было мало атрибутов действительно эффективного государства. Только после разгрома Японии, в последние годы революционной войны (1947–1949), борьба коммунистов с Гоминьданом стала истинной гражданской