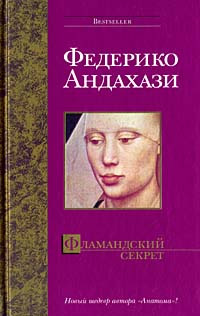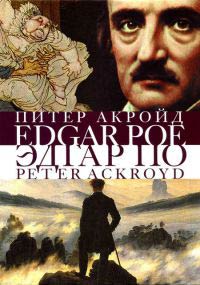Письмо неожиданно оборвалось на середине страницы. Взглянув на другую ее сторону, Полидори убедился, что написанное там он уже читал Со следующего листа слово снова взяла Анетта Легран.
2
Поскольку моего отца охватывал стыд при одной лишь мысли о подобной исповеди, он решился доверить страшную тайну только моим сестрам; письмо же, которое он начал писать к другу, так и осталось неоконченным. Я достала его из корзины для бумаг. Надеюсь, теперь Вам стало совершенно ясно, какие причины вынуждают моих сестер заботиться о моей жизни.
Как Вы, возможно, догадываетесь, события, о которых повествует мой отец, тщательным образом просеяны сквозь сито стыдливости, и, несмотря на драматический и покаянный тон, многое осталось недосказанным. Отца я не осуждаю. Однако, несмотря на то, что описание его страданий достойно жалости, я все же никогда не смогу ему простить того, вчем он сам признается, – намерения убить меня. Поверьте, я не очень дорожу жизнью. Если я до сих пор еще не умерла, то обязана этим вовсе не отцовской любви и не сестринской заботе. Я до сих пор храню тяжелые воспоминания о днях своего детства, но никого не обвиняю в том, что фактически была приговорена к гражданской смерти. Я сама выбрала одиночество и обрекла себя на полную безвестность. С раннего детства я почувствовала в себе склонность к уединению, да и поупом всегда чувствовала потребность – почти физиологическую – таиться в местах темных и тихих. Почти всему я научилась от своих врагов, таких же жителей подземелья. От крыс я переняла ненасытный голод к книгам, от тараканов – чуткую наблюдательность, от пауков – терпение, от летучих мышей – интуицию, от кротов – выносливость, позволяющую прорывать огромные ходы в мрачном чреве земли. Я знаю Париж лучше, чем самый кичливый парижанин. Мне ведомы ходы и коридоры, соединяющие одну окраину города с другой, пролегающие под руслом Сены, и, интересуй меня деньги, сокровища Наполеона уже тысячу и один раз были бы моими.
Сызмальства я ощущала жизненную необходимость оставаться рядом со своими сестрами. Возможно, причиной тому была наша связь сиамских близнецов, плотское внутриутробное соединение, может быть, и забота об их здоровье – в конце концов, от них зависела и моя жизнь. Как бы то ни было, я никогда не могла вести независимое существование, как если бы мы и в самом деле оставались единым существом, поделенным на три части, /доходило до того, что, когда гувернантка до хрипа втолковывала моим сестрам алфавит, – а они звезд с небес не хватали, хотя и не были законченными и непроходимыми дурами, – я наблюдала за ними из полутьмы, прильнув к внутренней стороне вентиляционной решетки. Так я научилась писать и читать. С раннего детства я также решила, что мне принадлежит подпольная часть дома: библиотека и располагавшаяся еще ниже кладовка. Отец унаследовал сказочную библиотеку своего дядюшки, Андре Поля Леграна, чью страсть к книгам свободно вмещало пространство, отведенное под библиотеку – второй этаж дома. Тем не менее, отец, решив, что многочисленные тома являются помехой и лишь захламляют комнаты, распорядилсяперенести книги, без всякой системы и порядка, в подвалы.
Библиотека была поистине прекрасна. Слабый свет, сочившийся сквозь подвальные окошки торжественными призрачными пучками, превращал ее в некое подобие святилища, нечто вроде языческой базилики или пышного дионисийского собора, который, несмотря на разруху и запустение, искушал меня – и только меня одну – самым соблазнительным из грехов. Пряный запах влажной бумаги, кожаные переплеты, изгрызенные крысиными челюстями листы, черви и поглотившая буквы плесень придавали книгам сходство с мертвым животным, останками которого питаются бесчисленные враждующие паразиты (др. Полидори, сочинитель, мечтающий преодолеть время, выбрал неверный путь). В этой бесшумной схватке я, существо, питающееся падалью, тоже хотела получить свою долю. Мне пришлось выдержать долгое и ожесточенное сражение с крысами, которые, казалось, исполнились решимости пожрать именно ту литературу, которую я в предвкушении удовольствия оставляла для себя. Я должна была обладать проворством, читать как можно быстрее, пока мои противники не успели прикончить книгу. Это была неравная борьба, ведь мне одной приходилось противостоять сотне грызунов. Стоило лишь какой-нибудь книжке вызвать мой интерес, и именно она, и никакая другая, подвергалась их атаке. Те самые книги, которые более всего услаждали мой дух, которых я более всего жаждала сохранить, становились добычей моих ненасытных врагинь. И не было ни тайника, который они бы не обнаружили, ни препятствия, которое они бы не преодолели. Тогда-то я и поняла, что, раз крысы умнее меня, нет иного выхода, кроме как черпать из кладезя их вековой мудрости. Если книгам суждено было пойти на корм животным, то я стану самым прожорливым из хищников. Я читала дни напролет. Заканчивая страницу, я ее тотчас вырывала и заглатывала не жуя. Вскоре я научилась различать вкус и питательные свойства каждого автора, каждого текста, каждого литературного стиля или течения. В этой нескончаемой войне с крысами, чем больше я на них походила, тем больше – наконец-то это произошло – я ощущала в себе нечто не поддающееся определению, нечто человеческое. Подобно тому, как человек в процессе эволюции перешел от сырой пищи к обработанной, я прошла свой путьразвития: перестала пожирать и начала есть. А поскольку рядом находился винный погреб, ничуть не менее богатый, чем библиотека, я вскоре обнаружило, что каждому автору подходит определенный сорт вина.
Во время одной из своих первых трапез я пообедала ранним испанским изданием Кихота; тем же вечером, находясь под впечатлением Однорукого из-под Лепанто, поужинала Назидательными новеллами, а на следующий день – вот какое потрясение у меня вызвало мое открытие – я проглотила в качестве завтрака очаровательное издание Идальго Кабальеро на французском, за которое мне пришлось сразиться с крысами лицом к лицу. Затем последовал изысканный экземпляр первого издания Страданий молодого Вертера, а на ужин – настоящая, гастрономическая оргия – Тысяча и одна ночь. Расправившись с Опытами Монтеня, я принялась лакомиться Филиппом де Комином, маркизой де Севинье и герцогом Сен-Симоном. Я все еще храню три последние страницы Декамерона и финал Гаргантюа и Пантагрюэля: они доставляют мне столь великое наслаждение, что я удерживаю себя от того, чтобы доесть их. Я буквально проглотила Поцелуи Иона Секунда, а заодно и Ариосто, Овидия, Вергилия, Катулла, Лукреция и Горация. Дошло даже до того, что я отведала сколь неудобоваримые, столь и великолепные Рассуждения о методе, а за ними следом – Страсти души. Как Вы могли заметить, я не склонна перечитывать книги по второму разу. Однако я наделена способностью, которую рискну определить как память организма: помимо тягостного дара запоминать все подряд – хоть сейчас прочитала бы Вам от начала до конца всю Одиссею – меня отличает еще одна особенность. То, что иногда излишне легкомысленно называют знанием, не оседает в виде некой суммы в глубинах моего духа, но хранится в теле в виде совокупности инстинктов, понимаемых в самом физиологическом смысле слова. Литература для меня – естественный способ выживания. Др. Полидори, настоятельно рекомендую Вам поставить опыт: съешьте то, что прочли.