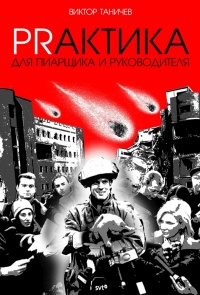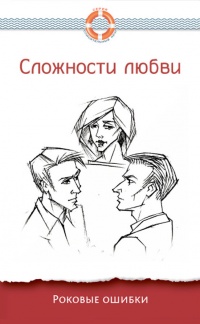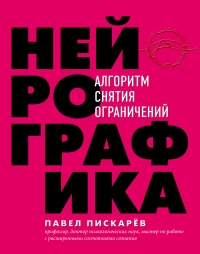Слепо верить нельзя никому, даже самому себе.
Стендаль
В 1994 году Quaker Oats, на тот момент процветающая независимая компания, предложила цену выше всех остальных потенциальных покупателей и приобрела Snapple, производителя холодного чая и соков. Стоимость сделки – 1.7 миллиарда долларов. Исполнительный директор Quaker Уильям Смитбург был уверен, что эффект от слияния оправдает затраты. За десять лет до этого он приобрел компанию, производящую спортивные напитки, Gatorade, превратив ее название в супер-бренд. Так что в этот раз он не сомневался, что маркетинговых мощностей Quaker хватит, чтобы повторить успех со Snapple.
Но в этот раз приобретение обернулось катастрофой. Через три года Quaker была вынуждена продать Snapple менее чем за пятую часть от потраченной на покупку суммы. Ошибка стоила Смитбургу должности, а Quaker независимости – в 2000 году компанию поглотил холдинг PepsiCo. В среде инвестиционных банкиров название Snapple стало синонимом «грубой стратегической ошибки». А ведь Смитбург был опытнейшим директором, которым восхищались коллеги, и он уверено делал то, что велела ему интуиция.
«Наитие», «деловой инстинкт», «ви́дение» – называйте как хотите. Большинство руководителей без колебания признают, что полагаются на интуицию при принятии стратегических решений. Парадоксальным образом в нашем мире, одержимом рациональностью, это стало предметом восхищения. Растиражированные образы ученого-изобретателя под деревом или гордого завоевателя на вершине горы подчеркивают важность вдохновения, внезапного озарения и мощного рывка, а не длительной и кропотливой работы. И когда мы читаем все истории успешных предпринимателей, выдающихся руководителях и великих политиков, то восхищаемся чаще их смелостью и интуицией, а не рациональностью и дисциплиной.
Интуиция действительно играет определенную, и зачастую весьма важную, роль в принятии решений. Однако нужно учиться укрощать ее и направлять в нужную сторону. Стоит различать случаи, когда интуиция помогает, а когда, наоборот, вводит в заблуждение. И нужно признать, что если речь идет о стратегических решениях, чаще всего на интуицию полагаться не стоит.
Две точки зрения на интуицию
Наибольший вклад в изучение интуиции внес американский психолог Гэри Клайн, разработавший подход, который вырос в научное направление, названное им самим «естественным принятием решений». В рамках этого направления исследователи изучают поведение профессионалов в реальных ситуациях. Они наблюдают за военными, полицейскими, шахматистами и медсестрами в реанимации. Очевидно, этим людям приходится принимать множество решений, но у них нет возможности применить традиционную «рациональную» модель: у них нет времени анализировать ситуацию, определять возможные варианты действий, сравнить все за и против, вырабатывать список критериев для оценки и, наконец, выбирать наилучшее решение. Так чем же они руководствуются? Если коротко: интуицией.
В одной из книг Клайн приводит историю командира отряда пожарных, который каким-то образом почувствовал, что горящий дом вот-вот обрушится. Через мгновение после того, как он приказал своим людям уходить, пол дома провалился. Когда его спросили, на основании чего он отдал приказ, тот не смог ответить. И даже предположил, что это было какое-то экстрасенсорное ощущение.
Что же происходило у командира в голове? Откуда взялось это интуитивное ощущение, спасшее несколько жизней? Конечно, Клайн всерьез не верит в сверхъестественное объяснение. В интуиции нет ничего волшебного. Как писал Наполеон: «Вдохновение на поле боя – обычно не что иное, как незаметная работа памяти», и большинство современных исследователей с ним согласны. Они считают, что интуиция основана на быстром распознавании ситуаций, которые нам уже доводилось пережить и запомнить, даже если сознательно мы не сделали из них никаких выводов. Клайн называет это моделью (принятия) решений на основе узнавания.
История командира пожарных отличный пример. Войдя в дом, он получил объективные сигналы: например, заметил очень высокую температуру в комнате, но при этом не услышал рева пламени. Если бы возгорание произошло на кухне, как он изначально подозревал, то оттуда доносились бы звуки. А если возгорание было бы незначительным – и потому не производило много шума, то и жар не был бы таким сильным. То есть непосредственные сигналы противоречили первоначальной гипотезе. Последующие события объяснили это противоречие: очагом пожара была не забытая на плите сковородка, а полностью охваченный огнем подвал. И пол, на котором стояли пожарные, тоже горел, а вот-вот должен был обрушиться.