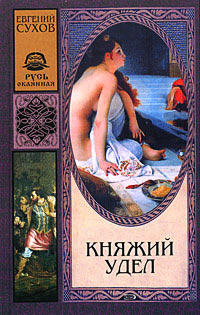Под гармоники желтую грусть.
Нет! Таких не подмять, не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана.
1906 год. Подмосковье
— Евлаша, а, Евлаша, так я с тобой пойду?
— Ой, даже не знаю, барынька. К лицу ли вам туда ходить? Ведь как зачнут мужички хлестаться, так ведь не клюквой измажутся. В прошлый год как морс побежал по лицам-то, так две бабы таракановские без чувств и завалились. А как же вам, барыне молодой? Смотреть ведь — страсть!
— Страсть, говоришь? Тоска-страсть… Вот что, Евлаша, ты как хочешь, а я пойду…
Проселочная дорога юлила так и сяк между холмами перед тем, как войти в старый казенный лес. Не больно хотелось ей слушать скучную болтовню старых сосен да еловое пожилое ворчание. То ли дело бежать открытыми лугами, где молодая трава и юные цветы только в эту весну увидели белый свет. И летнее солнце, и дождь, и ветер — все теперь для них, все им сочувствует, все им радуется. Здесь, здесь настоящая жизнь, которая быстро сойдет на нет, отцветет, закончится. А там, в лесу, прозябание вечности, глухота, зудение…
На холме церковь Михаила Архангела белой свечкой. По утру солнце отразится в маковке — загорится свечка, затеплится душа всей долины. Сонный звонарь залезет на колоколенку, зевнет напоследок, рот перекрестит, посмотрит по сторонам и возрадуется. Весь мир уже готов к утрене, только его одного и ждали. Поплюет на руки, приладится, тронет сначала едва-едва, ведь боязно разом нарушить такую тишину блаженную. Но скоро разойдется, осмелеет, божий мир, умытый росой, его поддержит, травы закивают, цветы зашелестят. Солнце само зазвенит самым большим колоколом. Слава Тебе, показавшему нам свет!
Перед церковью дорога еще раз загибается, низинку с протокой от храма Божьего будто отгораживает. В этой низине по праздникам бьется Праслово с Таракановкой. Бьются издавна в виду церкви, не считая крепкий удар грехом, не виня никого за увечья, за ребра, неправильно сросшиеся, и кости, ноющие к непогоде, бьются полюбовно, от души.
С прасловскими бабами и девками пришла Людмила Ратаева на горушку. Здесь уже толпятся старики, опираясь на палки, неторопливо беседуют.
— На Иванов день плохо бьются, — говорит один. — Вот на Троицу другая потеха. Было морсу в один год! Как в речке Гранке побитые мылись, так вода в Таракановку красная и потекла. Говорят, бабы ихние платки себе в красное перекрасили…
Люда посмотрела на стоявших тут же таракановских баб. Действительно, платки у них, как нарочно, были то с красными цветочками, то с розовыми каемочками.
— Народ нынче ужо не тот пошел, — говорил уже другой дед, — все норовит друг другу морду раскровянить. А в старину били уважительно — в душу или ребра. Таперича уже не то…
— Куды им, молодым, — подключался третий. — В старину за прасловских бился Ванька Хомут, так тот кулачищем кирпич в печке вышибал…
— Не Ванька, а Васька, — возражал ему еще один. — И не Хомут, а Оглобля. Васька Оглобля. Он же мне сродственником доводился. Мне ли не знать. Только он не кирпич вышибал, а венец из-под избы кулачищем высаживал…
— Вот и брешешь, — не сдавался предыдущий. — Сразу видать, что брешешь…
— Я брешу?..
Но спору не удалось разгореться. Ударили колокола, кончилась обедня. Тут же из церкви высыпали стайки мальчишек в разноцветных рубахах, сбежали в низину, стали потешаться, задирать друг друга для затравки настоящего кулачного боя. Постепенно подтягивались взрослые мужики. Некоторые из них нервно переминались, не знали, куда руки деть, иные же стояли подбоченясь и только усмехались. Были и такие, которые бегали между своими бойцами и подзуживали.
— Кузовские обещались нам подмочь. Вчера так и сказали: «Прасловским завтра вместе будем кровь пускать!» Так вон же стоят мужики! То не кузове-кие? Они и есть!..