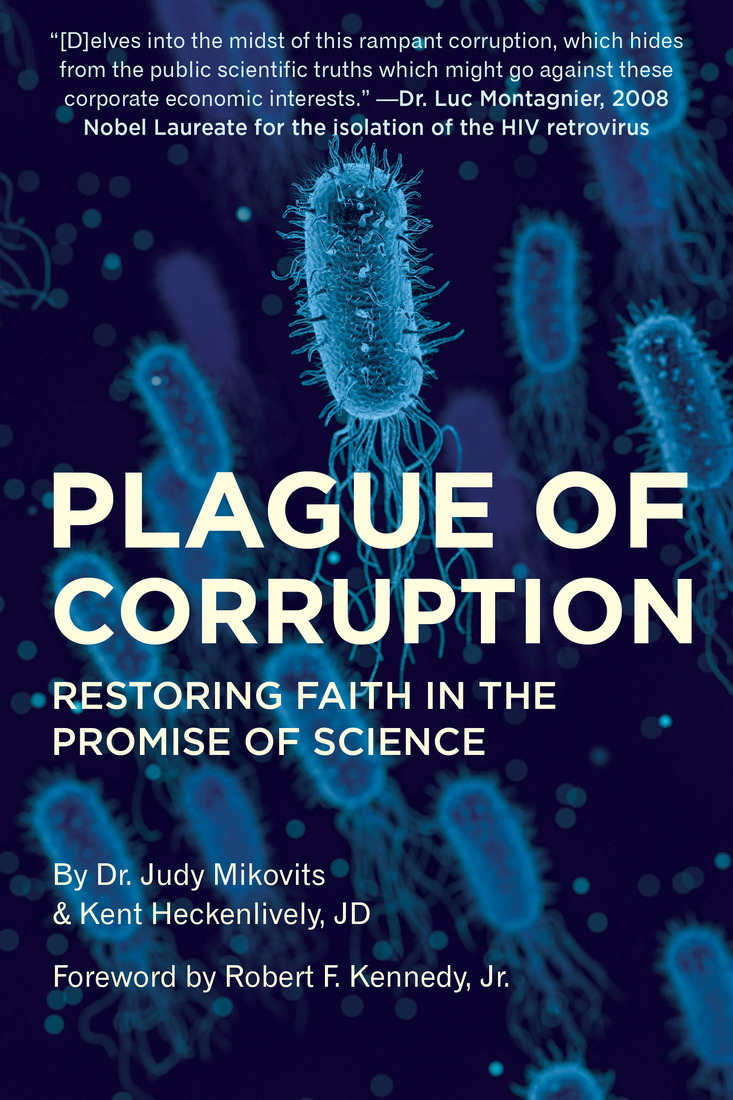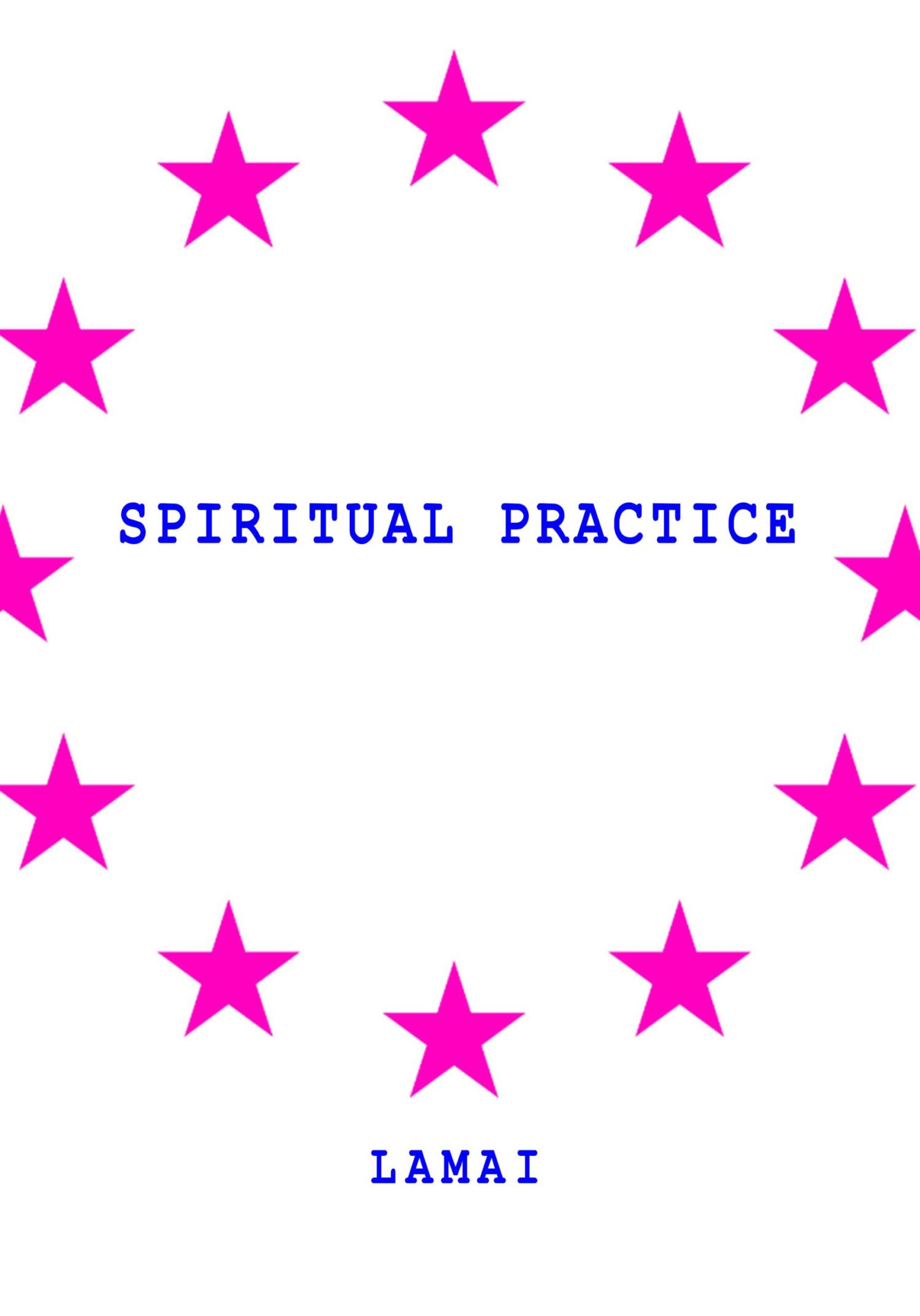объяснение динамики плазменных кометных хвостов, изменения в которых вызваны взаимодействием с потоком заряженных частиц, исходящих от Солнца – с еще не открытым тогда солнечным ветром.
На протяжении столетий кометы наблюдали в видимой области электромагнитного спектра, а во второй половине XX века ученые наконец-то смогли изучать кометы и в других диапазонах длин волн. В 1973 году были предприняты первые попытки зафиксировать радиоизлучение комет. Для этой цели выбрали потенциальную «комету столетия» – C/1973 E1 (Kohoutek)[47], которая, правда, как это часто бывает с косматыми странниками, не оправдала возложенных на нее надежд. Радионаблюдения комет в непрерывном спектре могут дать уникальную информацию о внутренней коме, а оптические и спектральные данные, наоборот, о внешней составляющей головы кометы и ее хвосте. Радиоизлучение впервые наблюдали в декабре 1973 года на волне длиной 1,4 мм и в январе 1974 года на волне 3,71 см. Источником этого излучения считается облако ледяных частичек, находящееся в непосредственной близости от кометного ядра; размер облака оценивается в 850 километров. Но никакого точечного источника зафиксировано не было. Также не удалось получить отраженный сигнал (эхо) от ядра кометы в ходе ее радиолокации с помощью 37-метрового радиотелескопа Хэйстэк (Вестфорд, Массачусетс). Негативный результат в науке тоже важен; в данном случае он позволил сделать верхнюю оценку размера ядра кометы – не более 2,1 километра.
Комета Кохоутека
С другой стороны, беспрецедентные мультиспектральные наблюдения кометы Кохоутека, самой «наблюдаемой» до возвращения кометы Галлея в 1986 году, дали ученым новые знания. Впервые в кометах были обнаружены метилцианид, цианистый водород и кремний, а также наконец-то можно было утверждать, что в их составе присутствует вода. Обобщенный анализ данных показал состоятельность модели «грязного снежка» Уиппла, а идея «песчаной отмели», которую параллельно развивал британский астроном Реймонд Литлтон, представлявший ядро кометы как рыхлые, слабосвязанные между собой скопления частиц пыли с незначительным количеством льда, ушла с научной сцены и была забыта.
Начало 1980-х годов ознаменовалось подготовкой человечества к юбилейному, тридцатому визиту кометы Галлея. И в этот раз ее появление зафиксировали уже не на фотопленку, а на сверхсовременный тип детектора – прибор с зарядовой связью (ПЗС). Переоткрыли комету 16 октября 1982 года американские астрономы Дэвид Джуитт и Эдвард Дэниелсон на цифровых снимках с 5,1-метрового телескопа «Хейл» (Маунт Паломар, Калифорния, США). Пролет 1986 года стал поистине вехой в принципиально новом направлении исследования комет – в непосредственной близости (in situ), из космоса. Да, комета Галлея не стала первым объектом, который наблюдали вне пределов земной атмосферы. Первой стала комета C/1969 T1 (Tago-Sato-Kosaka), которую наблюдала «Орбитальная астрономическая обсерватория 2» (ОАО-2): вторая из серии космических обсерваторий-спутников, позволявших проводить наблюдения в ультрафиолетовой, рентгеновской и гамма-областях электромагнитного излучения, которые не пропускает земная атмосфера. Для изучения Вселенной было необходимо вынести детекторы в космос. Первый спутник ОАО-1, запущенный 8 апреля 1966 года, проработал всего три дня, после чего связь с ним была утеряна. А вот второй аппарат, который отправился в космос 7 декабря 1968 года, помог ученым сделать новые потрясающие открытия, в том числе и о кометах.
В 1960-х годах высказывалось предположение, что головы комет могут быть окружены исполинскими облаками водорода, которые можно зафиксировать на волне 121,5 нанометра (α-линия Лаймана), но подтвердить или опровергнуть эту идею можно было лишь с использованием ультрафиолетового телескопа. Ответить на этот вопрос удалось 14 января 1970 года. Область рассеянного свечения обнаруженного водородного облака кометы C/1969 T1 простиралась на 800 тысяч километров. Но эти размеры не идут ни в какое сравнение с водородной атмосферой, обнаруженной у одной из самых ярких комет 1970-х – кометы Беннетта (C/1969 Y1), у которой облако протянулось на 20 миллионов километров, многократно превысив диаметр Солнца! Масса водорода, содержавшаяся в нем, оценивается в несколько миллионов тонн. Появились и первые оценки массы воды, теряемой кометой в ходе пролета внутренней области Солнечной системы – более двухсот миллионов тонн.
12 августа 1978 года в космос отправилась революционная миссия, история которой продлится более тридцати шести лет! International Sun-Earth Explorer-3 («Международный исследователь Солнца и Земли» или ISEE-3) стал первым космическим аппаратом, запущенным в точку Лагранжа L1 системы Солнце—Земля. На первом этапе научными задачами ISEE-3 были изучение солнечного ветра и его взаимодействия с магнитосферой Земли, а также космических лучей. В области L1 аппарат успешно проработал практически три года, что дало ученым-баллистикам бесценный опыт, который позже был использован, в том числе, для управления спутником SOHO – героем следующих глав. 10 июня 1982 года космический аппарат перевели на гомановскую переходную орбиту[48]. После серии нетривиальных гравитационных маневров вблизи Земли и Луны космический аппарат был выведен на гелиоцентрическую орбиту, а сама миссия переименована в International Cometary Explorer (ICE), или «Международный кометный исследователь». 11 сентября 1985 года впервые в истории человечества космический аппарат прошел свозь ионный хвост кометы 21P/Giacobini-Zinner всего в 7800 километрах от ее ядра. К сожалению, на аппарате отсутствовала камера, так что снимков ядра кометы с близкого расстояния пришлось ждать еще полгода.
Комета Беннетта
23 марта 1983 года на высокоэллиптическую орбиту была выведена советская космическая ультрафиолетовая обсерватория «Астрон». Космический аппарат массой более трех тонн нес на борту 80-сантиметровый телескоп и комплекс рентгеновских спектрографов. Вместо запланированного года работы спутник проработал шесть лет, дождавшись очередного прилета кометы Галлея. В декабре 1985 года по данным, полученным «Астро́ном», советские ученые под руководством будущего директора Института астрономии РАН Александра Алексеевича Боярчука[49] создали более точную и комплексную модель кометной комы. Космическая обсерватория успела пронаблюдать и вспышку сверхновой звезды 1987 года (SN 1987A) в соседней галактике-спутнике Млечного Пути – Большом Магеллановом Облаке.
Политически поляризованный научный мир готовил две независимые научные космические программы по изучению знаменитейшей кометы. В СССР это была программа «СоПроГ» («Советская программа исследований кометы Галлея»), а международная программа называлась The International Halley Watch (IHW). За несколько лет к комете направился целый флот из пяти автоматических межпланетных станций, за которыми закрепилось неофициальное название «Армада Галлея». От Советского Союза ядро кометы исследовали две космические миссии, «Вега-1» и «Вега-2», переключившиеся на комету после изучения облачной сестры Земли – Венеры. Само название аппаратов никак не было связано со знаменитой звездой, а расшифровывалось как «Венера-Галлея». Первый космический аппарат начал передавать изображения кометы 4 марта 1986 года с расстояния 14 миллионов километров, а уже 6 марта пролетел всего в 8879 километрах от ее ядра. Это были первые в истории человечества изображения сердца кометы – ее ядра, той тайны, что так долго скрывали космические странники под непроницаемым пологом своей газово-пылевой оболочки. Проходя сквозь поток кометных частиц, аппарат уцелел, но мощность его солнечных батарей упала практически вдвое. Спустя три дня, 9 марта 1986 года, «Вега-2» пролетела еще ближе – всего в 8045 километрах. Скорость