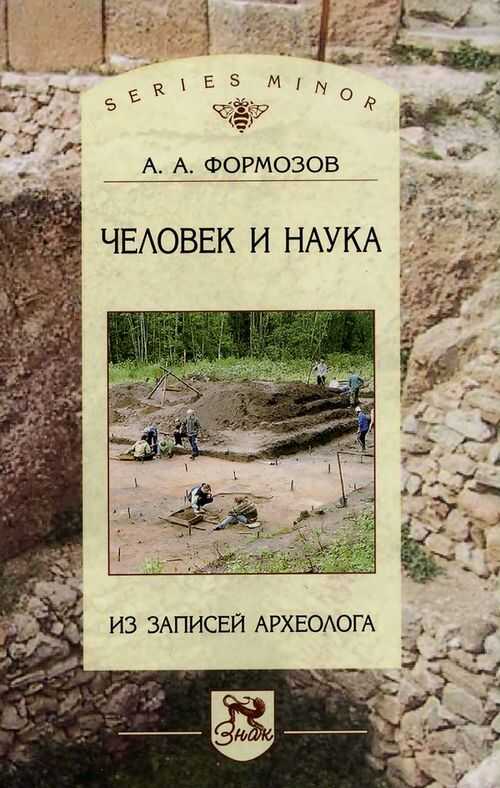завершилась, но Александр Иванович еще долго будет отстаивать свою точку зрения (нередко себе противореча) в статьях, рецензиях и стихах. По сути, до тиняковской истории – скандала, разразившегося весной 1916 года.
В конце этой главки дам слово самому герою моей книги:
Вершиной моей литературной деятельности и известности надо считать 1915-й год, когда я писал в газетах «День», «Речь», «Голос», в «Историч. Вестнике», в «Ежемес. Журнале» Миролюбова и во множестве еженедельников. Мои рецензии обращали на себя внимание, о моих фельетонах говорили (особенно сильный шум вызвала моя статья «В защиту войны», направленная против Леонида Андреева и напечатанная в «Речи» 26 октября 1915 г.). Виднейшие писатели интересовались мною. <…>
Но в начале 1916 г. все это разом оборвалось…
* * *
С литератором Борисом Садовским (переиначившим свою фамилию на более породистый лад – «Садовской») Тиняков познакомился еще в Москве. Оба в 1900-х боготворили Брюсова и пытались добиться его любви. Но по-настоящему близки они стали с первых же недель жизни Александра Ивановича в Петербурге.
Отношение многих специалистов (и не только) к очеркам Георгия Иванова о персонажах Серебряного века, мягко говоря, скептическое в плане достоверности, но избежать их цитирования невозможно – других сведений по интересующей нас теме почти не сохранилось (или они находятся в глубине архивных джунглей).
Итак, отрывок из девятой главы «Петербургских зим» Георгия Иванова[11].
Я рисовал себе это свидание (с Борисом Садовским. – Р.С.) несколько иначе. Я думал, что меня встретит благообразный господин, на всей наружности которого отпечатлена его профессия – поэта-символиста. Ну, что-нибудь вроде Чулкова или Рукавишникова. Он встанет с глубокого кресла, отложит в сторону том Метерлинка и, откинув со лба поэтическую прядь, протянет мне руку. «Здравствуйте. Я рад. Вы один из немногих, сумевших заглянуть под покрывало Изиды…»
…В узком и длинном «номере» толпилось человек двадцать поэтов – все из самой зеленой молодежи. Некоторых я знал, некоторых видел впервые. Густой табачный дым застилал лица и вещи. Стоял страшный шум. На кровати, развалясь, сидел тощий человек, плешивый, с желтым, потасканным лицом. Маленькие ядовитые глазки его подмигивали, рука ухарски ударяла по гитаре. Дрожащим фальцетом он пел:
Русского царя солдаты
Рады жертвовать собой,
Не из денег, не из платы,
Но за честь страны родной.
На нем был расстегнутый… дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка. Маленькая подагрическая ножка лихо отбивала такт…
Я стоял в недоумении – туда ли я попал. И даже если туда, все-таки не уйти ли? Но мой знакомый К. уже заметил меня и что-то сказал игравшему на гитаре. Ядовитые глазки впились в меня с любопытством. Пение прекратилось.
– Иванов! – громко прогнусавил хозяин дома, делая ударение на о. – Добро пожаловать, Иванов! Водку пьете? Икру – съели, не надо опаздывать! Наверстывайте – сейчас жженку будем варить!..
Он сделал приглашающий жест в сторону стола, уставленного всевозможными бутылками, и снова запел:
Эх ты, водка,
Гусарская тетка!
Эх ты, жженка,
Гусарская женка!..
– Подтягивай, ребята! – вдруг закричал он, уже совершенно петухом. – Пей, дворянство российское! Урра! С нами Бог!..
Я огляделся. – «Дворянство российское» было пьяно, пьян был и хозяин. Варили жженку, проливая горящий спирт на ковер, читали стихи, пели, подтягивали, пили, кричали «ура», обнимались. Не долго был трезвым и я. <…>
Та же комната. Тот же голос. Те же пронзительно ядовитые глазки под плешивым лбом. Но в комнате чинный порядок, и фальцет Садовского звучит чопорно-любезно. В черном долгополом сюртуке он больше похож на псаломщика, чем на забулдыгу-гусара.
На стенах, на столе, у кровати – всюду портреты Николая I. Их штук десять. На коне, в профиль, в шинели, опять на коне. Я смотрю с удивлением.
– Сей муж, – поясняет Садовский, – был величайшим из государей, не токмо российских, но и всего света. Вот сынок, – меняет он выспренний тон на старушечий говор, – сынок был гусь неважный. Экую мерзость выкинул – хамов освободил. Хам его и укокошил…
Среди портретов всех русских царей от Михаила Федоровича, развешанных и расставленных по всем углам комнаты, – портрета Александра II нет.
– В доме дворянина Садовского ему не место. <…>
Садовский излагает свои «идеи», впиваясь в собеседника острыми глазами: принимает ли всерьез. Мне уже успели рассказать, что крепостничество и дворянство напускные, и я всерьез не принимаю.
Острые глазки смотрят пронзительно и лукаво. «…Священная миссия высшего сословия…» Он обрывает фразу, не окончив.
– Впрочем, ну все это к черту. Давайте говорить о стихах!..
– Давайте.
«Монархизм в эпоху 1905–1917 годов был слишком непопулярен и для писателя не мог пройти безнаказанно, – писал в статье „Памяти Б.А.Садовского“ Владислав Ходасевич. – Садовской же еще поддразнивал. То в богемское либеральнейшее кафе на Тверском бульваре являлся в дворянской фуражке с красным околышем; то правовернейшему эсеру, чуть-чуть лишь подмигивая, расписывал он обширность своих поместий (в действительности – ничтожных); с радикальнейшей дамой заводил речь о прелестях крепостного права».
А вот из дневника Корнея Чуковского (запись от 8 июня 1914 года):
«Б.А.Садовской очень симпатичен, архаичен, первого человека вижу, у которого и вправду есть в душе старинный склад, поэзия дворянства. <…> Но все это мелко, куцо, без философии».
«Дворянский мундир с блестящими пуговицами и голубая шелковая косоворотка», «дворянство российское», портреты императоров, «мерзость выкинул – хамов освободил», «дворянская фуражка с красным околышем», «речь о прелестях крепостного права», «старинный склад», «поэзия дворянства»… Вот под влияние какого человека попал крестьянский сын Александр Тиняков – после поклонения купеческому сыну Валерию Брюсову.
Борис Садовский прожил долгую, темную и несчастную жизнь.
Родился в 1881 году в утратившем статус уездного городке Ардатов Нижегородской губернии. Отец, родом из духовного сословия, выслужил дворянство. В 1904 году Брюсов пригласил Садовского писать критические заметки в журнал «Весы». Позднее сотрудничал со многими петербургскими и московскими газетами и журналами. Сочинял стихи, но большую известность приобрел как историк литературы (много писал о поэтах XIX века) и либреттист, адаптировавший для кабарешных представлений в том числе и произведения Пушкина.
В двадцать три года Садовский заболел сифилисом. Из-за слишком интенсивного лечения препаратами ртути его в 1916-м разбил паралич. В 1920-х жил в Нижнем Новгороде; распространился слух о его смерти, и эмигрировавший Владислав Ходасевич написал статью «Памяти Б.А.Садовского», из которой я выше привел несколько слов.
Но Садовский, хоть и прикованный к инвалидному креслу, был жив. И прожил после этого некролога еще больше четверти века. В конце двадцатых даже перебрался