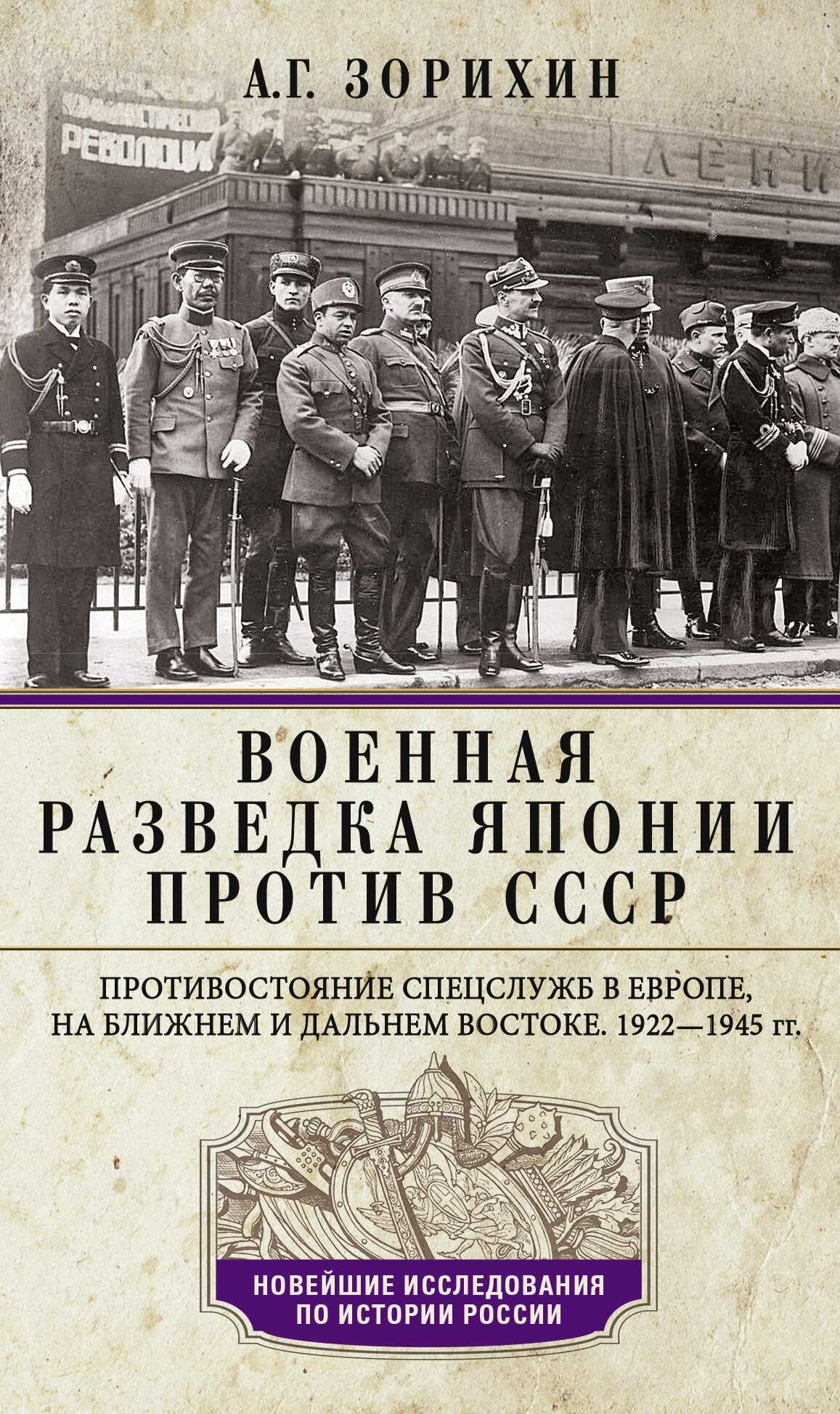что на политической карте Ближнего Востока возник откровенно антизападный политический режим.
В Вашингтоне об этом узнали через полчаса после начала государственного переворота[106]. Столь неожиданное событие повергло руководство США в шок.
В этот же день новые иракские власти сформировали правительство, в которое вошли сторонники Насера и левые. Премьер-министром стал Касем, министром внутренних дел полковник Абдул Салам Ареф[107]. Кабинет провозгласил курс на сближение с Насером.
Революция в Багдаде означала, что политическая картина на Арабском Востоке резко изменилась. Взаимное дипломатическое признание Ирака и Объединенной Арабской Республики произошло 19 июля, когда стороны подписали Договор о сотрудничестве и обороне. В случае нападения на одну из стран третьей стороной участницы договора обязывались оказать военную помощь[108].
В течение следующих суток новый иракский режим признают СССР и страны Варшавского договора, а также Объединенная Арабская Республика. Реакция со стороны СССР была незамедлительной. 18 июля Президиум ЦК КПСС вынес решение «о признании республики и оказании серьезной политической поддержки новому режиму»[109].
Внезапно произошедшая Иракская революция оказалась неожиданностью и для членов «консервативного лагеря» Ближнего Востока. Отсутствие осязаемых предпосылок к ней невольно свидетельствовало о том, что такой ход событий мог стать универсальным. Уже 14 июля 1958 г. в Анкаре экстренное совещание проводят неарабские члены организации Багдадского пакта – Афганистан, Иран, Пакистан. Руководство пакта выразило готовность участвовать в разрешении ливано-иракского кризиса, однако, опасаясь резкой реакции СССР (Москва начала показательные военные маневры в Туркменском и Закавказском округах[110]), в качестве санкции для действий ожидало реальных шагов от США[111]. В тот же день состоялась консультация госсекретаря США Даллеса с членами сенатского комитета по международным делам. Было очевидно, что время требовало незамедлительных действий. Однако сенатор Джеймс Уильям Фулбрайт отметил, что США «совсем не нужна большая война с СССР». По мнению Фулбрайта, «советский след» в Иракской революции был не столь очевиден, как может показаться на первый взгляд[112].
17 июля Иордания в свою очередь потребовала срочного рассмотрения в Совете Безопасности ООН жалобы о «вмешательстве в ее внутренние дела со стороны ОАР»[113]. В то же время правительство обращается к Великобритании за военной помощью[114]. Согласие официального Лондона откликнуться на просьбу Иордании получает полную поддержку со стороны США. На состоявшихся в течение 17 июля двух совместных встречах кабинета британского премьер-министра Гарольда Макмиллана и администрации Эйзенхауэра стороны провели оперативное совещание по вопросу ливанского и иракского кризисов. Как меру противодействия они определили военное вторжение с целью «успокоения» общей ситуации в Ливане и Иордании. Принципиальным моментом было то, что английская и американская стороны пришли к соглашению о разделении вторжения на два вектора – вторжение США в Ливан и Великобритании – в Иорданию. Демаркация усилий рассматривалась как принципиальное условие сотрудничества сторон в этом вопросе[115].
В течение 17 июля английские части начинают прибывать в Иорданию. Днем на территорию аэропорта Аммана приземляются самолеты с 16-й парашютной бригадой войск Ее Величества (2000 человек) на борту[116].
Официально основным мотивом действий Лондона была защита собственных инвестиций в нефтяной промышленности Ирака[117]. Однако наряду с экономическим аспектом на повестке дня стоял вопрос о возможных волнениях в рядах офицеров – 11 июля посол США в Иордании Райт информировал Вашингтон, что в среде офицерства небедуинского происхождения сильны пронасеристские настроения и симпатии к социалистической партии БААС[118].
Ситуация в Иордании осложнялась и тем, что, только по официальным данным, число беженцев-арабов на территории Иордании достигало 500 тыс. человек из 1,5 млн населения Иордании[119]. Такое пропорциональное соотношение делало в условиях общего ближневосточного кризиса массы беженцев потенциально восприимчивым к насеристской риторике субстратом. В контексте арабо-израильского конфликта Иордания являлась важным звеном региональной политики. Таким образом, нарастание нестабильности еще и в Иордании привело бы Ближний Восток к полному коллапсу.
Страны НАТО выступили с поддержкой действий США и Великобритании[120]. ФРГ и Франция предоставляли базы для переброски американских войск. Впрочем, официальный Париж испытывал определенную досаду: Ливан некогда был зоной французского влияния. Не обладая тем политическим влиянием в Ливане, которое могло бы позволить поучаствовать в урегулировании конфликта, французские политики демонстрировали скорее рефлексивную досаду. Министр иностранных дел Морис Кув де Мюрвиль укоризненно заявил, что «беспорядки» на Ближнем Востоке объясняются отсутствием согласия между западными державами в их политике по отношению к Ближнему Востоку[121].
Высадка войск урегулировала конфликт: был назначен оппозиционный по составу кабинет, а последовавшая за этой мерой контрреволюция во главе с Катаибом свергла Шамуна, восстановив в итоге докризисную формулу религиозно-политического баланса. Новым президентом стал командующий ливанской армией Фуад Шихаб, провозгласивший возвращение к политике нейтралитета во внешнеполитических вопросах[122].
Появление в Ливане американского и английского контингентов вызвало незамедлительную реакцию со стороны СССР. Советский Союз заявил о своей готовности принять меры к обеспечению мира в районе, находящемся в непосредственной близости от советских границ. Впервые о своей позиции Москва сообщила по дипломатическим каналам утром 16 июня, когда заместитель министра иностранных дел Василий Кузнецов уведомил посла США в СССР Льюэллина Томсона, что «ввиду возникновения военной угрозы в районе границ СССР Москва намерена предпринять ряд действенных мер по ее пресечению»[123].
19 июля генеральный секретарь КПСС Хрущёв направил президенту Эйзенхауэру письмо, предлагая немедленные переговоры между СССР, США, Великобританией и Индией в целях «принятия срочных мер для урегулирования начинающегося военного конфликта»[124]. Вашингтон отверг предложение советской стороны, сославшись на авторитет ООН как организации, уполномоченной осуществлять урегулирование международных конфликтов.
В ответном письме от 22 июля президент Эйзенхауэр обращал внимание Хрущёва на тот факт, что своими действиями США не намерены менять сложившийся статус-кво на Ближнем Востоке. Речь шла, добавил президент, о поддержании мира в регионе[125].
Вторую половину июля стороны обменивались взаимными обвинениями в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Советская сторона настаивала на рассмотрении ливанского вопроса в ООН, однако не в рамках модели Совета Безопасности, а в составе США, СССР, Франции, Индии. Это предложение получило название «плана Хрущёва»[126]. Он подразумевал рассмотрение проблемы в рамках диалога четырех держав при участии Генерального секретаря ООН. Хотя предложение Москвы не вызвало энтузиазма у Вашингтона[127], стороны продолжили диалог. И Вашингтону, и Москве в тот момент было важно, чтобы «досье Ливана» все же было рассмотрено именно в рамках механизма ООН.
Между тем на внутриполитической сцене Ливана положение сдвинулось с мертвой точки. 31 июля в условиях чрезвычайного положения парламент Ливана проголосовал двумя третями собравшихся за генерала Шихаба, который был избран президентом[128]. В условиях кризиса периода марта – июля Шихаб дистанцировался от политических катаклизмов в стране, что позволило ему сохранить имидж нейтральной фигуры. Таким образом, избрание Шихаба стало