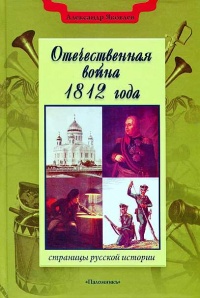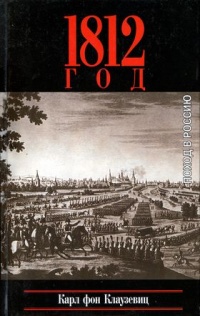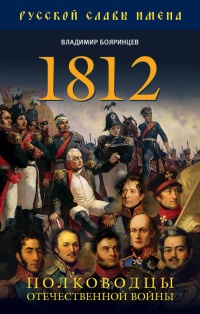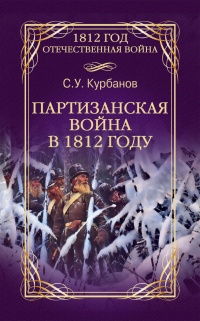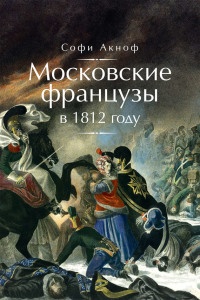Хоть Москва в руках французов, Это, право, не беда! Наш фельдмаршал князь Кутузов Их на смерть впустил туда[1209].
Даже крикливо-вычурная риторика придворных и околоцерковных пиитов, которых возглавлял и как бы символизировал в своем лице поэт-графоман гр. Д.И. Хвостов (племянник А.В. Суворова), неуклюже воспевавший и Суворова[1210], и Кутузова, — даже эта риторика тогда оказывалась полезной, ибо вся поэзия обращалась в «сплошной боевой клич» (25. Т. 5. С. 162).
Театральные спектакли часто приводили тогда к патриотическим манифестациям. Наибольшим успехом пользовались трагедии «Дмитрий Донской» В.А. Озерова и «Всеобщее ополчение» С.И. Висковатого, исторические сюжеты которых живо перекликались со злобой дня. Стоило, например, персонажу из «Дмитрия Донского» сказать о Куликовской битве: «…Победа совершенна! Разбитый хан бежит, Россия освобождена!», как зрители вскакивали с мест, кричали «ура», и весь театр дрожал от рукоплесканий[1211]. Даже в балете, по воспоминаниям очевидца, «одно пошевеление знамени с надписью «За отечество» доводило зрителей до исступления» (25. Т. 5. С. 187). Настоящий фурор вызывали концерты знаменитой певицы Е.С. Сандуновой, которая под всеобщий восторг и «радостные слезы» пела «славу» «храброму графу Витгенштейну», «храброму генералу Тормасову», «храброму генералу Кульневу» (Там же. С. 185). «Иные, выходя из театра, на другой день бежали записываться в ополчение» (24. Т. 2. С. 31–32).
Немало способствовала национальному воодушевлению и только что зародившаяся тогда в России политическая карикатура. Ее представляли классик национальной живописи А.Г. Венецианов, которого считают «талантливейшим и первым по времени русским карикатуристом» (Там же. С. 207), И.А. Иванов, И.И. Теребенев, А.О. Орловский. Все они едко высмеивали врага и тем самым усиливали общее чувство морального превосходства над ним, столь необходимое в национальной войне[1212].
Патриотический вклад в общее дело победы над Наполеоном вносили тогда деятели культуры не только русского и украинского, но и других народов России. Студент-медик Дерптского университета К.М. Бэр, впоследствии ученый с мировым именем, основатель эмбриологии, добровольно пошел на войну лечить русских раненых[1213], а латышский просветитель Г. Меркел вел столь успешную пропаганду среди неприятельских солдат, что русские военные власти приравняли ее к «действиям 20-тысячной армии»[1214].