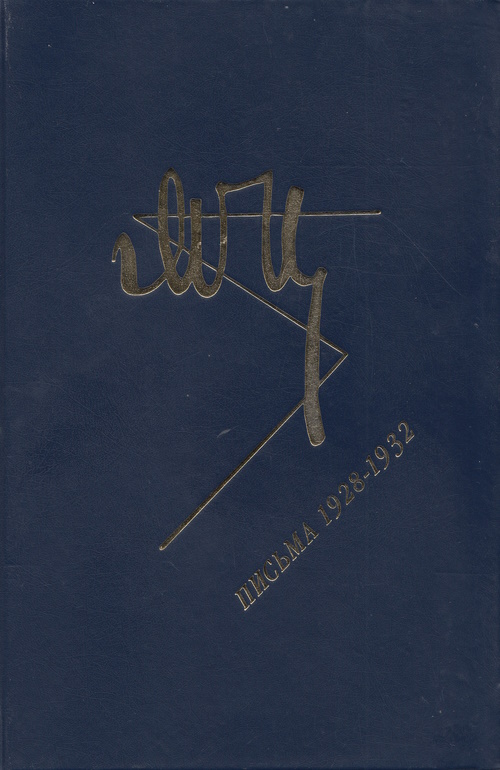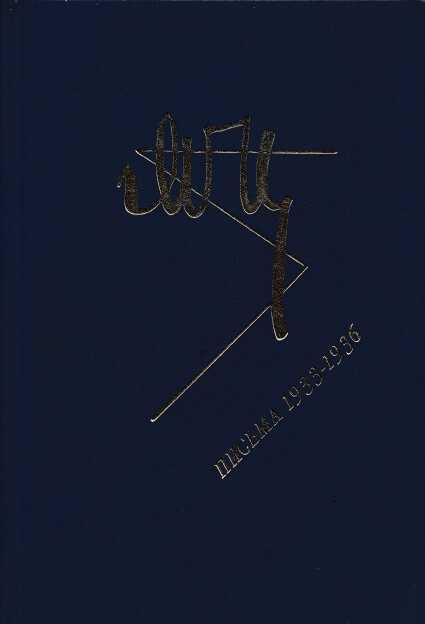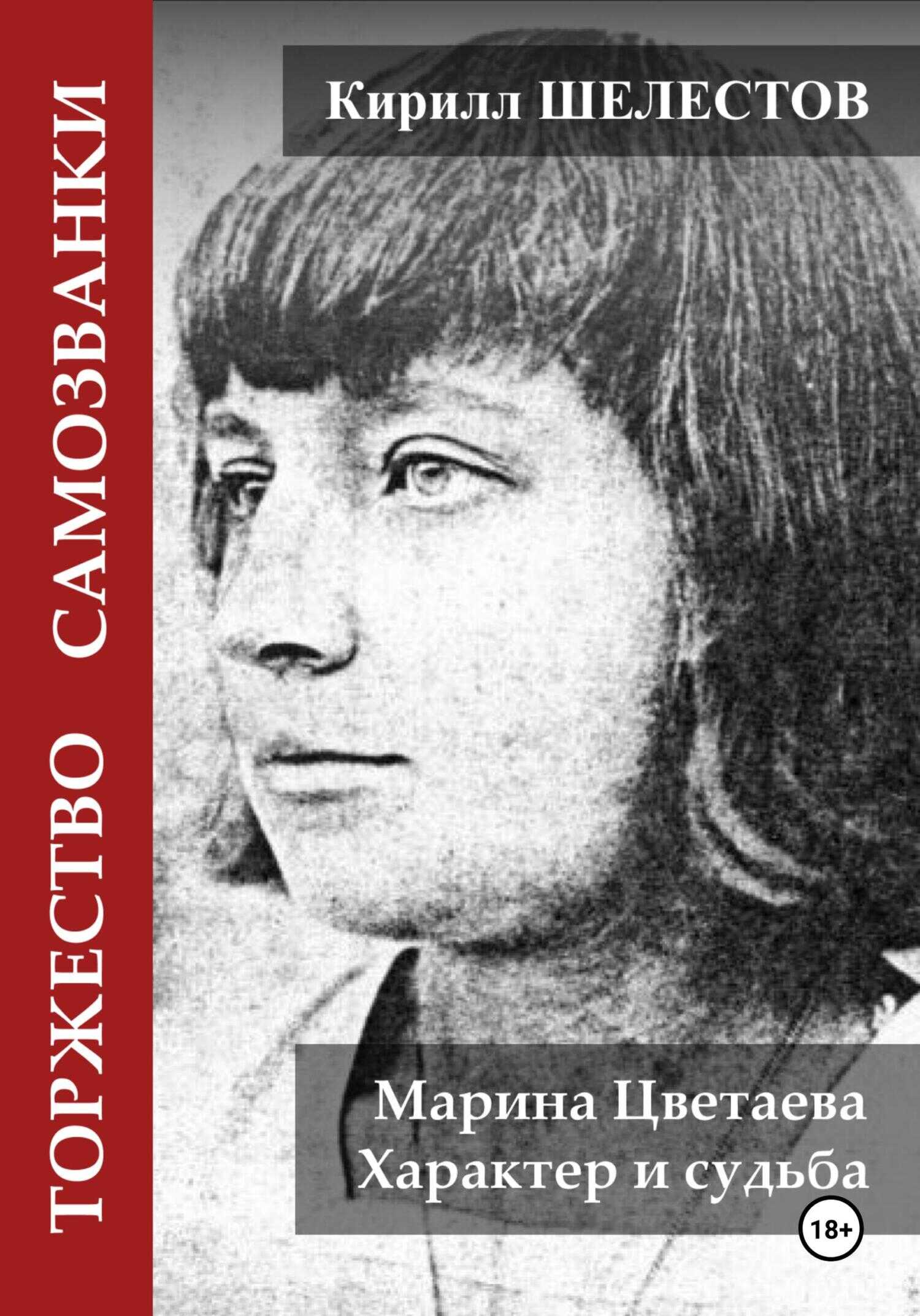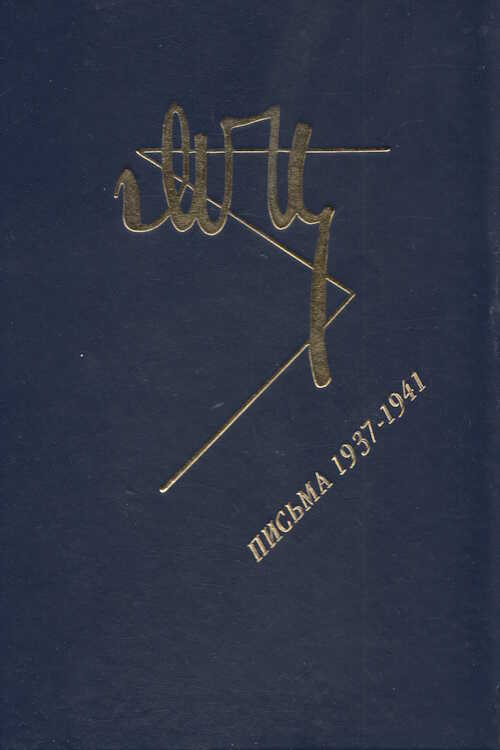По ней взбегала, в мечтах, упорных, стягивая с пальцев перчатку – в навстречу протянутые…
…Если простятся ей большие её грехи гордыни и сластолюбия – так это за сегодняшний день!
…Шла, не разбирая пути. В Москве – 1926 год – наводнение, не пропускают, обходом. Нежданно – Молочный переулок у Зачатьевского монастыря. Мимо дверей друзей – к их ступеньке подступила с набережной вода. Трамваи стоят. Почти вечер. Далеко за Москвой-рекой – колокольный звон…
Мертвец идёт по Москве.
Дома ждёт человек с письмом от друга из Харькова, от Леонида. И билеты на скрипичный концерт татарской музыки в Консерватории, Ягья эфенди – «Татарин на могиле матери», «Новая Хайтарма», «Революция в музыке».
Не пойти? Дать себе право побыть без людей – сегодня? Отпустить, уговорясь на завтра, приехавшего? отговориться? Никто не дал права на такие свободы! Жизнь идёт, и обижать людей потому, что тебе не можется? Запри себя на замок – и живи!
Но она ещё увидится с Петром Михайловичем, в нежданный день! Она будет идти осенью по тропинке – навестить своих дорогих. На кладбище тихо, как в покинутом парке. Часовня, закрытая. Идёт, загребая ногами – листья.
Взгляд вдруг останавливает её. Не понимает! Точно кто-то позвал… Переводит глаза – в сером стоячем камне под стеклом – медальон. Светлые глаза под тяжёлыми веками с худого лица глядят неотрывно. Они вдвоём! Ещё не хочет понять, не сдаётся… Чёрным по серому: «Пётр Михайлович Р-в». Слёзы застлали, не видит. Рушится на колени, лбом о прутья решётки: УМЕР! Господи Боже мой!
Глава 4
Ещё об Андрее
Семь лет спустя от дня, когда Ника провожала на пристань Андрея и Анну Васильевну, ей судьба привела быть в Париже. Узнав, что она здесь, Андрей приехал с границ Испании, где жил со своим братом. Родители его давно умерли. (В год голода Нике удалось послать им посылку съестного, всего одну, сама жила впроголодь с сыном. Они ответили ей благодарностью.)
Встреча с Андреем на вокзале. Неузнаваем! Постарение? Да. Но глаза всё такие же чудные, синие! Но не споёшь о них теперь «Васильки – глаза твои!»… Другие глаза, о таких не поют песен… Кончились песни – встречи, опьянение (сказка «Мила и Нолли!»), заблуждения, расхождения… Будто Время остановилось в глазах этих – и не в сердце они глядят себе – в Душу!
Рукопожатье, бережный поцелуй в щёку, голос тихий, не тот. Но тебя познаёт внимательно, заново. Собственно, это не встреча: знакомство двух, на измененье расставшихся. («Ну как ты – за годы? Где ты? Какова ты теперь? Годы прошли – так ли живёшь, как надо? Себя – побеждаешь ли?» – вот что молча его глаза говорили, окунувшись в её глаза.)
И то, что она рассказать хотела, – все её «нет» встречным, все её «нет» – себе, что несла как победы (ибо не даром далось!), – так легко стало на вес, что – смолкло. Как-то – «язык к гортани» – перед синим молчаньем этих глаз. Всё, что спросить хотела: об Анне, живописи его, о здоровье, – всё отзвучало, не прозвучав. День провели в тихой комнате у его друзей, оба с пути усталые (он – особенно: худ очень! Вопрос: «Болен?» – отвёл рукой). Лёжа на двух диванах, говорили о внутренних путях человека…
Собственно, Андрей – да, неузнаваем. Хотя так же блещут глаза. Нет, совсем иначе – другим огнём. Это лицо монашеское. В первый час обозначилось, что жизнь Ники – с людьми в искусстве – Андрей воспринял как своё прошлое. Он читает только философские книги, и других не надо читать – искушение. Но одобрил Никино обещание, коим себя пять лет назад связала, по своему желанью, и что держит его, что так называемой «любовью» не соблазняется, – похвалил. Чужих семей не разрушает, своей хватит, не хочет. Он давно уже понял, что так. Жизнь с Анной была тяжела – потому что греховна. Когда и она поняла это – расстались. Уехала к мужу. Только этим попытались искупить. И ни словом не вспомнили Андрей и Ника про когдатошнюю свою любовь. На другой день шли по обожаемому Никой Парижу – но и это отвлечение от главного он отверг, осудил. Только раз, присев на скамью под деревьями, прохладной рукой подняв прядь седую со лба Ники, он сказал, с улыбкой:
– Ах, юмор, юмор ваш… «Юмор, как привиденье»… как вы писали мне…
В утро отъезда Андрея Ника накупила ему дорожного угощенья. Он принял грациозно и добро, но всё это ему не было нужно – сладости передаст дочке брата… Отрешённость. Об Отрадном – ни слова, как его и не было. Он жил уже в том внутреннем мире, где не было ни дат, ни имён.
На прощанье они обменялись крестами, обнялись по-братски. И поезд его ушёл…
А через несколько месяцев Нике пришло письмо от друзей из Парижа – о смерти Андрея. Он умер один: девушка-друг, за ним ходившая, ушла отдохнуть после бессонных ночей, так как у него наступило облегчение. Когда она вернулась, всё было кончено: горлом хлынула кровь… Священник, его хорошо знавший, сказал, что это из всей его жизни – самый высокий образец и что Андрей изнурял себя постом, чего от больного никто не требовал.
Ника с письмом в руке рухнула у постели на колени, как в тот день, когда впервые стала о нём молиться. Всё с ним пережитое проснулось в ней с небывалой силой.
Единственное счастье её жизни, так странно расплётшееся в этом пароксизме слёз, всплеснулось в ней вопросом: если б не Анна – они б не расстались? Или он всё же ушёл бы от неё в этот свой путь? Ушёл бы от неё – или нет? Но кто бы на это ответил? Человека такого – нет…
Мир опустел – с его уходом, как когда она прожила смерть Глеба, как опустел мир после исчезновения М. А. и Алёши.
– Нет, это неверное чувство, – сказала себе Ника, – в мире ещё много людей и много страданий, мир не пуст, нет…
Из письма Ники – Леониду: «Слушайте, Леонид! Я Вам сейчас – в ответ на это Ваше, передо мной лежащее – нежное, словно в первый день нашей встречи – письмо, – расскажу один день, Вами, должно быть, забытый? такое бывает? чтобы нацело позабыть? расскажу один день, вернее, один час моей (и, как видите, Вашей) жизни… Я Вам даю, как встарь, мою руку. Держите её, как встарь. Слушайте, как Вы эту руку