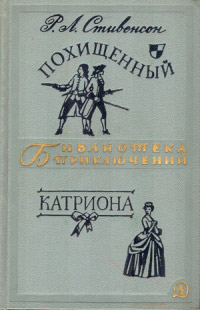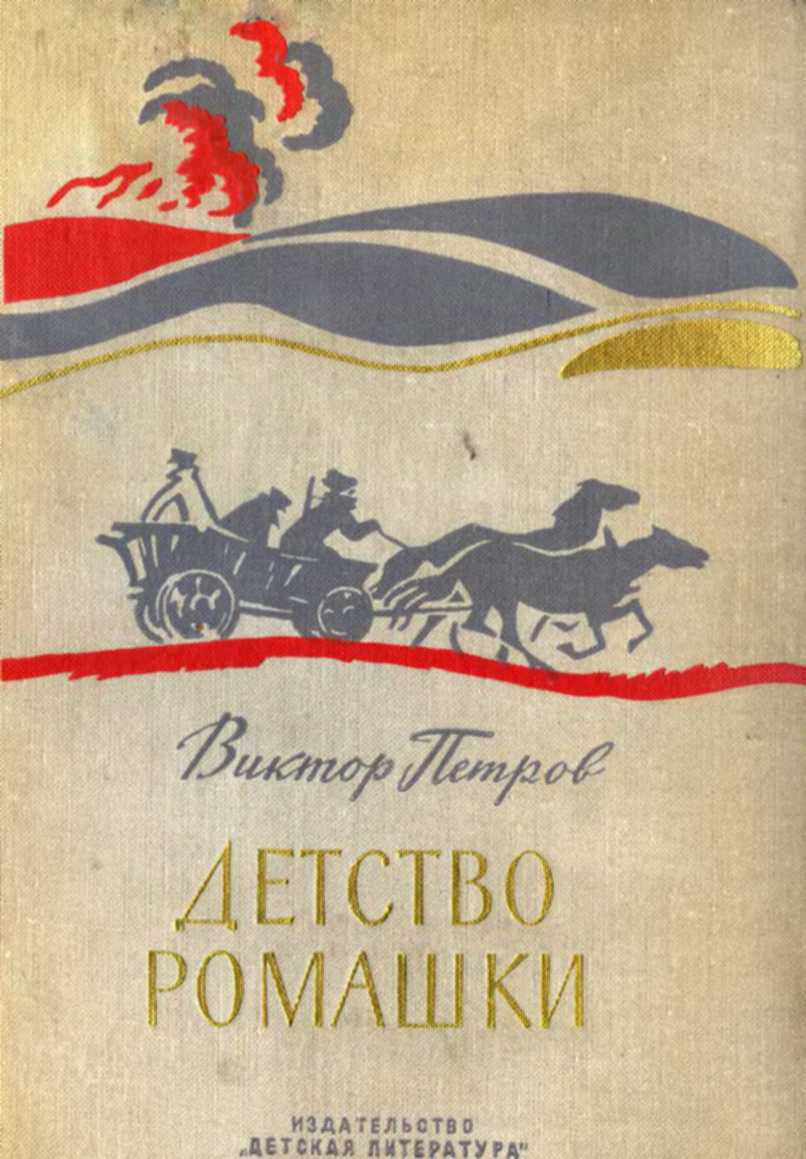вижу, – воскликнул он, – как девица окончательно превращается в женщину, как все ее задатки развиваются, как, подающая большие надежды, она превосходит все ожидания! Разве осмелился бы я задержать рост создания столь чудесного? Это ваша мать предложила, – добавил он уже иным тоном, – чтобы я сам на вас женился.
Боюсь, что на лице моем при одной мысли об уготованной мне судьбе изобразился настоящий ужас, потому что он поспешил меня успокоить:
– Не тревожьтесь, Асенефа. Как бы стар я ни был, я помню бурные фантазии юности, – уверил он меня. – Я прожил жизнь в лабораториях, но за бессонным бдением возле колб и реторт не забыл, как бьется молодое сердце. Старость смиренно просит избавить ее от невыносимых мук; юность, схватив удачу за косы, требует радости, положенной ей по праву. У меня еще живы в памяти блаженства молодости; нет никого, кто бы острее чувствовал их, кто бы завистливее наблюдал, как им предаются другие. Я лишь дал себе зарок не уступать своим желаниям до сего дня. Что же, подумайте: вы остались без всякой помощи и поддержки, единственный друг ваш – этот пожилой исследователь, наделенный хитроумием, коварством и изворотливостью старика, но сострадательностью и чувствительностью юноши. Ответьте мне на один только вопрос: избежали ли вы тенёт, которых мир именует любовью? Свободно ли ваше сердце, вольны ли вы еще в своих желаниях? Или ваши очи и слух ваш уже пребывают в сладком рабстве?
Я отвечала ему сбивчиво, вероятно сказав, что сердце мое упокоилось в могиле вместе с моими родителями.
– Довольно, – остановил он меня. – Часто, слишком часто судьба судила мне исполнять те обязанности, о которых мы говорили сегодня; никто в Юте не мог справиться с ними столь образцово, и потому я стал пользоваться определенным влиянием, которое сейчас отдаю всецело в ваше распоряжение, отчасти в память моих покойных друзей, ваших родителей, отчасти ради вас самих, ибо я испытываю к вам искреннее сочувствие. Я пошлю вас в Англию, в великий город Лондон, где вам предстоит ожидать жениха, которого я избрал для вас. Это будет мой сын, молодой человек, подходящий вам летами и не обойденный той пригожестью, какой требует ваша юность. Поскольку сердце ваше свободно, вы можете дать мне единственное обещание, что я вправе потребовать в обмен на большие расходы и еще больший риск, которому я себя подвергаю, оказывая вам помощь: обещайте же мне ожидать прибытия жениха со всей благопристойностью и тактом жены.
Какое-то время я сидела потрясенная, не произнося ни слова. Я вспомнила доходившие до меня слухи о том, что ни один из браков доктора не был благословлен детьми, и, озадаченная, тем более предалась горю. Впрочем, как он сказал, я осталась одна в царстве мрака, и довольно было всего лишь мысли о бегстве, о браке с равным мне, чтобы во мне затеплилась слабая надежда, и, сама не помню, в каких именно выражениях, я приняла его замысел.
Казалось, мое согласие тронуло его более, чем я могла ожидать. «Сейчас увидите, – воскликнул он, – сейчас увидите и сами убедитесь, что сделали правильный выбор». Поспешив в соседнюю комнату, он вернулся с небольшим, весьма неумело выполненным портретом, написанным маслом. Он изображал мужчину, одетого по моде сорокалетней давности: молодого, но вполне узнаваемого доктора.
– Нравится? – спросил он. – Это сам я в юности. Мой… мой мальчик будет похож на меня, но благороднее, здоровью его, снизойдя до смертного, могут позавидовать ангелы, а каким умом он наделен, Асенефа, могучим и властительным умом! Такого, мне кажется, не сыскать и одного на десять тысяч. Такой человек, сочетающий юношеские страсти со сдержанностью, силой, достоинством зрелости, обладающий несметными умениями и способностями, готовый занять любой пост и взять на себя любую ответственность, воплощение всех возможных достоинств, – скажите мне, разве он не удовлетворяет требованиям честолюбивой девицы? Скажите, разве этого не достаточно?
И он поднес портрет к самому моему лицу дрожащей рукой.
Я коротко сказала, что лучшего не смею и желать, ведь это проявление отцовских чувств глубоко потрясло меня, но слова благодарности еще не замерли у меня на устах, как я преисполнилась самого дерзкого, мятежного духа. Все внушало мне отвращение и ужас: он, его портрет, его сын, – и если бы у меня оставался какой-то выбор, кроме смерти и мормонского брака, то, клянусь Богом, я приняла бы его, не колеблясь.
– Что ж, хорошо, – отвечал он, – выходит, я не ошибся, рассчитывая на вашу смелость и решительность. Теперь поешьте, ибо вам предстоит долгий путь.
Тут он поставил передо мною кушанье и, пока я пыталась повиноваться, вышел из комнаты и вернулся, неся охапку какой-то грубой одежды.
– Вот, – сказал он, – облачитесь в это, и вас никто не узнает. Оставляю вас на время.
Одежда эта, возможно, принадлежала полноватому недорослю лет пятнадцати, а на мне повисла мешком, жестоко стесняя движения. Однако поистине неудержимый трепет охватывал меня при мысли о том, откуда взялись эти вещи и какая судьба постигла юношу, который носил их. Не успела я переодеться, как вернулся доктор, открыл заднее окно, помог мне вылезти в узкий проем между стеной и нависающими над домом утесами и показал лестницу из стальных скобок, вставленных в выдолбленные в камне отверстия. «Поднимайтесь не мешкая, – велел он. – Когда доберетесь доверху, идите, как можно дольше оставаясь под сенью дыма. В конце концов дым приведет вас в каньон, спуститесь туда, и на дне его вас будет ждать человек с двумя лошадьми. Ему вы будете повиноваться беспрекословно. И помните, храните молчание! Одно неверное слово, и механизм, который я запустил, чтобы помочь вам, будет обращен против вас. Идите же, и да призрят на вас Небеса!»
Наверх я поднялась легко. Выбравшись на скалу, я увидела, что другой ее склон, высокий, но покатый и голый, плавно спускается вниз, залитый лунным светом и отчетливо различимый со всех окрестных гор. На нем не сыскать было ни складки, ни трещины, чтобы обозреть местность или спрятаться, и, зная, что эти пустынные края кишат шпионами, я поспешила укрыться под гонимыми ночным ветром клубами дыма и двигалась дальше под их защитой. Иногда дым возносился прямо к небесам, подхваченный особенно сильным порывом ветра, и тогда самым плотным и надежным моим покровом оставалась тень, которую дым отбрасывал в лунном свете; иногда он, напротив, полз, стелясь по земле, и я шла, погрузившись лишь по плечи в его толщу, словно в горный туман. Однако, как бы то ни было, дым, извергаемый этой зловещей печью, защитил меня в начале моего пути к