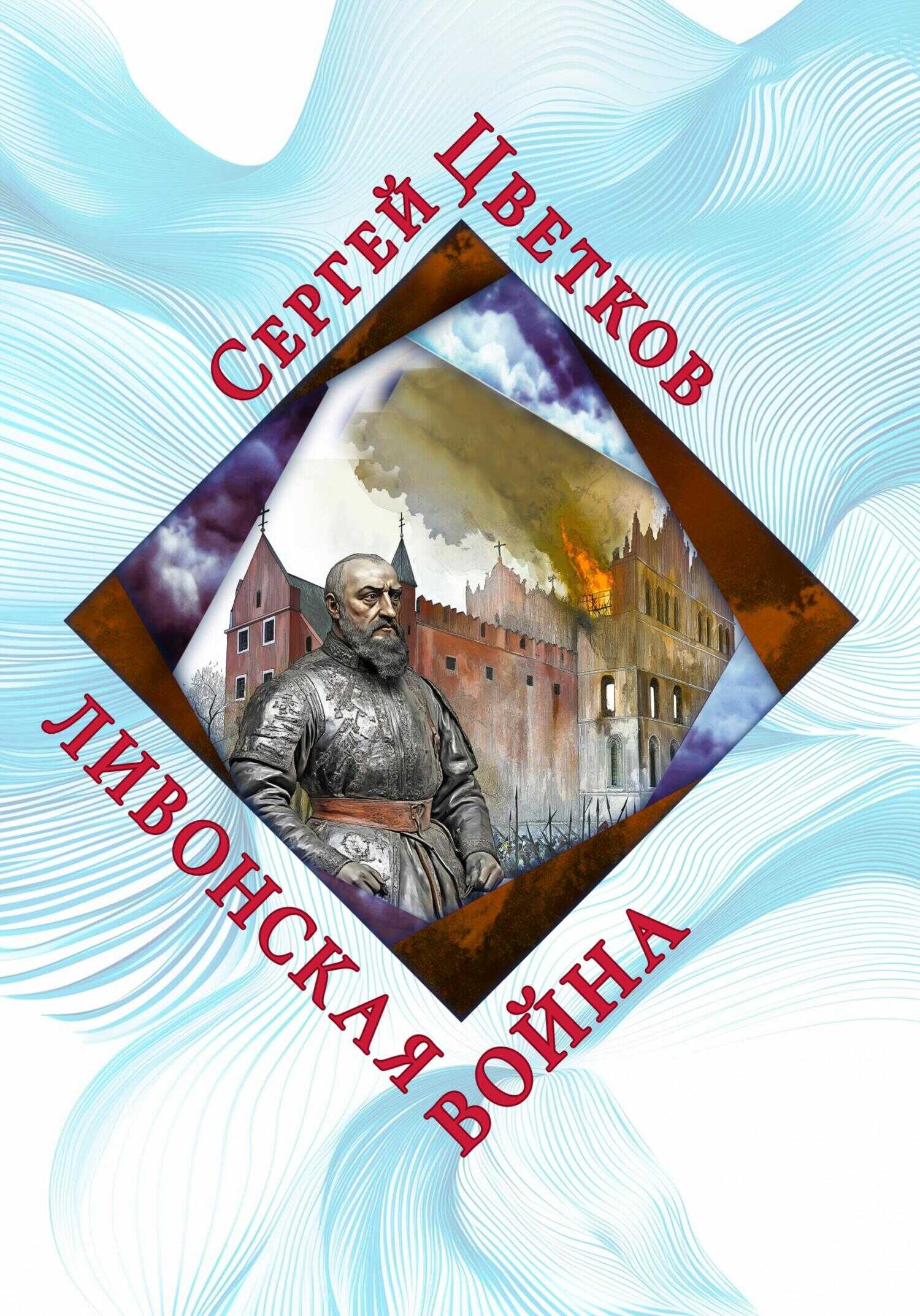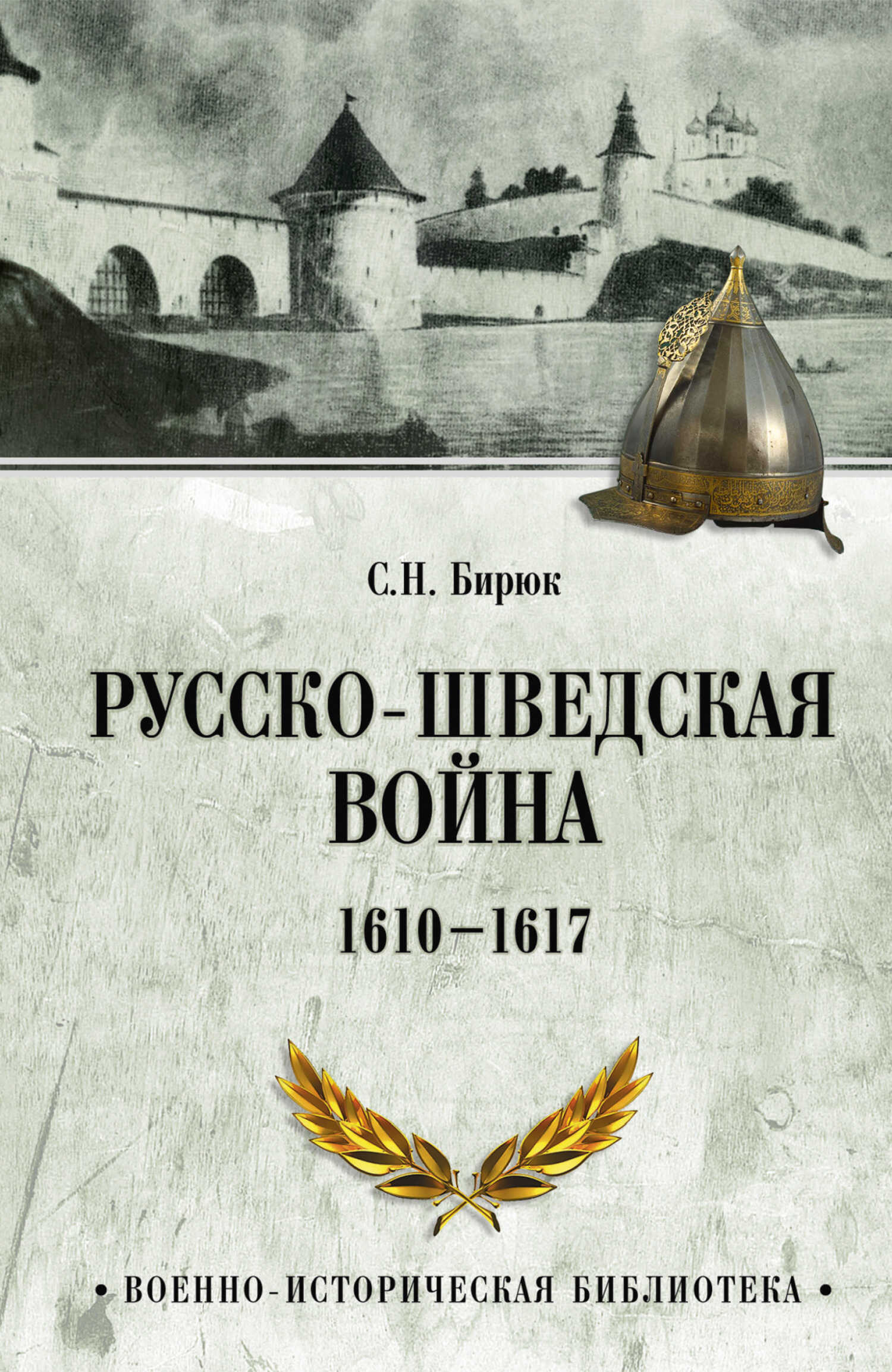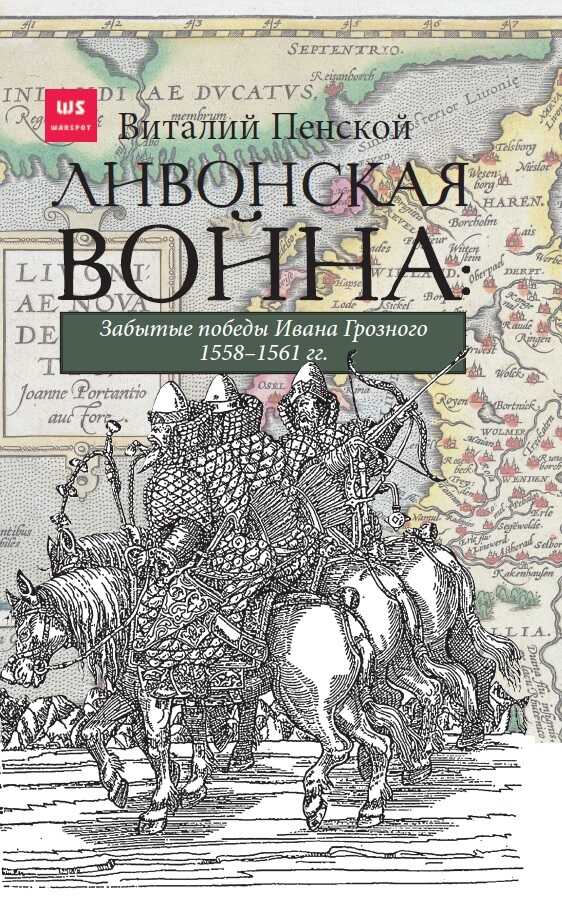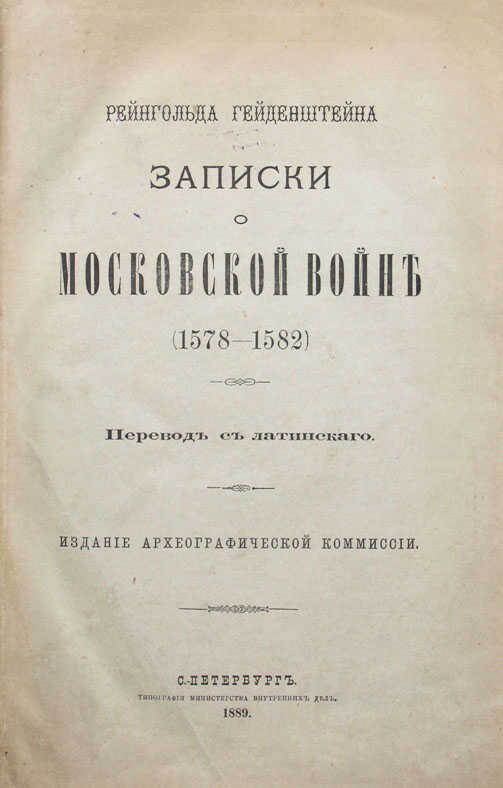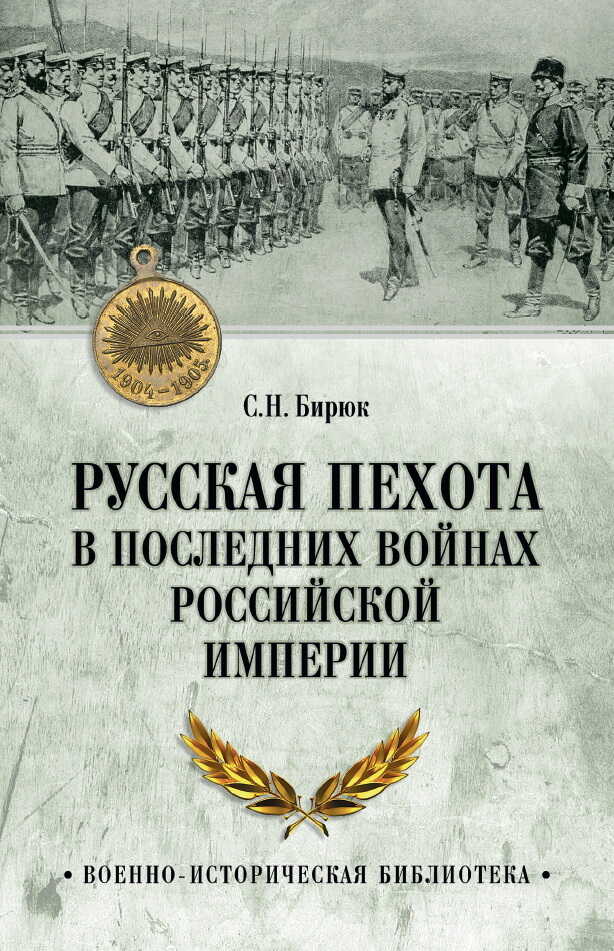до начала XVII века[72]. В конце XVI века правительство делало некоторые попытки усилить боеспособность поместной конницы – велев большинству служить с пищалями. Попытка вооружить всех детей боярских пищалями не получила дальнейшего развития, и в XVII веке вооружение дворянской конницы также оставалось разнообразным[73].
Поместная конница до конца столетия предпочитала луки пищалям. Огнестрельное оружие рассматривалось дворянами и детьми боярскими как оружие более низкого, чем саадак, социального статуса – оружие стрельцов. Поэтому, даже при прямых царских указах о вооружении поместной конницы огнестрельным оружием, дворяне и дети боярские вооружали пищалями своих послужильцев, предпочитая выезжать в саадаке. По мнению историка М.А. Малова, первыми пищалями, которые освоило русское служилое сословие, были охотничьи, опять по причине их высокого социального статуса[74].
Настоящей бедой русского поместного войска стала неявка на службу – «нетство» – дворян и детей боярских, а также бегство их из полков. Владелец поместья, вынужденный бросать хозяйство по первому же приказу властей, поднимался на службу, как правило, без большой охоты, а при первом же удобном случае старался уклониться от выполнения своего долга. Кроме того, что «нетство» сокращало численность армии, оно оказывало отрицательное влияние на воинскую дисциплину. Массовый характер «нетство» приняло только в последние годы Ливонской войны, нося вынужденный характер, будучи связано с разорением хозяйств служилых людей, многие из которых не имели средств «подняться» на службу. Правительство организовало систему розыска, наказания и возвращения «нетчиков» на службу. Позднее было введено обязательное поручительство третьих лиц за исправное несение службы каждым дворянином или сыном боярским[75].
Служилые люди по «прибору»
Среди служилых людей по «прибору» первое место по численности и значению занимали стрельцы. Они представляли собой наиболее совершенную часть русских вооруженных сил XVI в. Стрельцы выполняли городовую (оборонную) службу, несли пограничную охрану, участвовали в полевых боях как пехота и являлись осадным войском при штурмах неприятельских городов[76].
Стрельцы, в отличие от поместной конницы, поселенные компактно в особых слободах, сознающие свою «инаковость» и спаянные корпоративным духом, практически мгновенно по получении приказа, без раскачки и долгих сборов могли быть использованы для военных, полицейских и других акций[77].
Стрельцы делились на приказы, по 500 человек в каждом. Стрелецкие головы со своими приказами были вполне самостоятельными и подчинялись непосредственно центральному учреждению – Стрелецкому приказу. Приказы делились на сотни, а сотни – на полусотни и на десятки. Во главе приказов стояли головы, сотнями ведали сотники, полусотнями – пятидесятники и десятками – десятники.
Стрельцы разделялись и московских и городовых. Московские стрельцы несли ежедневно охрану царского дворца, а также караульную службу в городе, сменяясь по неделям. Также московские стрельцы посылались в другие города для усиления их гарнизонов. В военное время стрельцы принимали участие в походах и боевых действиях в составе полевой армии.
Городовые стрельцы, численностью от 20 до 1000 человек, составляли гарнизоны преимущественно пограничных городов. Наибольшее количество стрельцов находилось на северо-западной границе, особенно в Пскове и Новгороде. В южных пограничных городах стрельцов было меньше, так как там имелось много казаков, выполнявших и городовую службу[78].
Городовые стрельцы, согласно сохранившимся источникам XVI века, набирались преимущественно из всякого рода вольницы, «казаков», «младших сыновей», т. е. всевозможных «захребетников» и «подсуседков». Государство стремилось к тому, чтобы в стрельцы не уходили домохозяйства-налогоплательщики, особенно из тяглого населения. На стрелецкую службу принимались только свободные люди, с условием, чтобы они поступали на службу по своему желанию, были здоровы и молоды[79].
Городовые стрельцы обеспечивались денежным и хлебным жалованьем. Единых окладов жалованья для стрельцов не существовало. Вероятно, проблемы с регулярностью выплаты жалованья и его адекватностью уровню цен существовали, поэтому стрельцам было разрешено заниматься торговлей и ремеслами[80].
Как и в большинстве европейских стран, в конце правления Ивана Грозного (в 1578–1582 гг.) практиковалась практика найма стрельцов на год. Историк В.В. Пенской приводит пример найма стрельцов, причем не по одному, а десятками и полусотнями ровно на год. В одном случае срок указан «от Покрова Святей Богородицы лета 7088 на год, до Покрова же лета 7089». В другом – «от Петрова заговейна да до Петрова заговейна на год»[81].
Городовые стрельцы в мирное время несли гарнизонную службу – караулы по стенам, башням и у городских ворот, у правительственных учреждений (в таможне, приказной избе и пр.), их посылали в уезды за нетчиками, на селитренные промыслы, в конвой казны, для сопровождения послов, для исполнения судебных приговоров и т. д. В военное время городовые стрельцы назначались в разные полки войска целыми приказами или сотнями. Большая часть стрельцов несла службу в пешем строю. Конные стрельцы (например, астраханские) получали казенных лошадей или деньги на их покупку.
Вооружение стрельцов состояло из ручной пищали с ударно-фитильным замком, сабли и боевого топора, замененного в XVII веке на бердыш. В последней четверти XVI века в России распространяются ружья, карабины, пистолеты с ударно-кремневыми замками – самопалы[82].
На самостоятельную роль, аналогичную западноевропейскому дуэту пикинеры – аркебузиры, на поле боя стрельцы не претендовали. Неразвитая инфраструктура, редкое и малочисленное население, на юге – степи, на западе и северо-западе леса и болота – характерные особенности восточноевропейского театра военных действий – не позволяли в полной мере использовать тяжелую пехоту, ведущую бой древковым оружием в плотных боевых порядках. Легкая пехота, вооруженная огнестрельным оружием, была более эффективна в условиях «малой» войны – набегов, скоротечных стычек и рейдов[83].
Казаки и татары
С середины XVI века в составе русского войска находились «вольные» казаки (яицкие, волжские, донские, а затем украинские). После присоединения Казанского и Астраханского ханств ряды служилого казачества пополнились татарской, чувашской и мордовской конницей, сохранявшей свою национальную (десятичную) систему деления и подчинявшуюся мурзам и князьям[84].
В XVI веке в Русское государство продолжился приток служилых людей из-за границы, из татарских орд, из Польши, особенно из Литвы. При Василии III с князем Глинским из Литвы прибыло много людей, «которые целым гнездом были испомещены в Муромском уезде и назывались «Глинского людьми», или просто «литвой». В 1535 году на службу государя московского прибыло 300 семейств «литвы» с женами и детьми. Еще больший поток семейств прибывал с татарской стороны. В середине XV века к Василию Темному приехал служить с отрядом татар казанский царевич Касим, им был отдан Мещерский Городец на Оке с уездом, с тех пор город стал зваться именем царевича. При Иване Грозном точно так же испомещены были многие татарские мурзы около г.