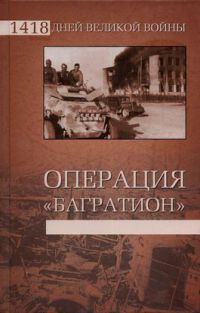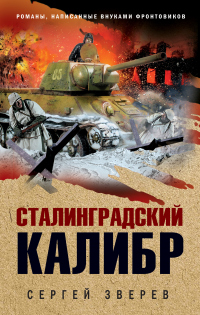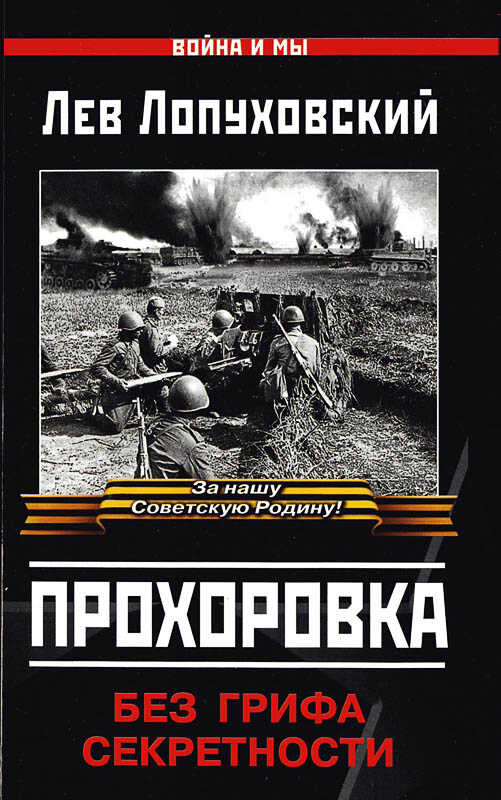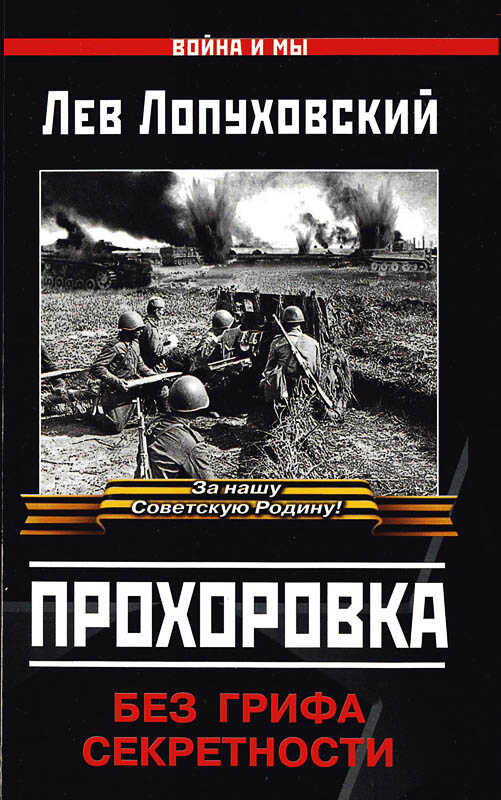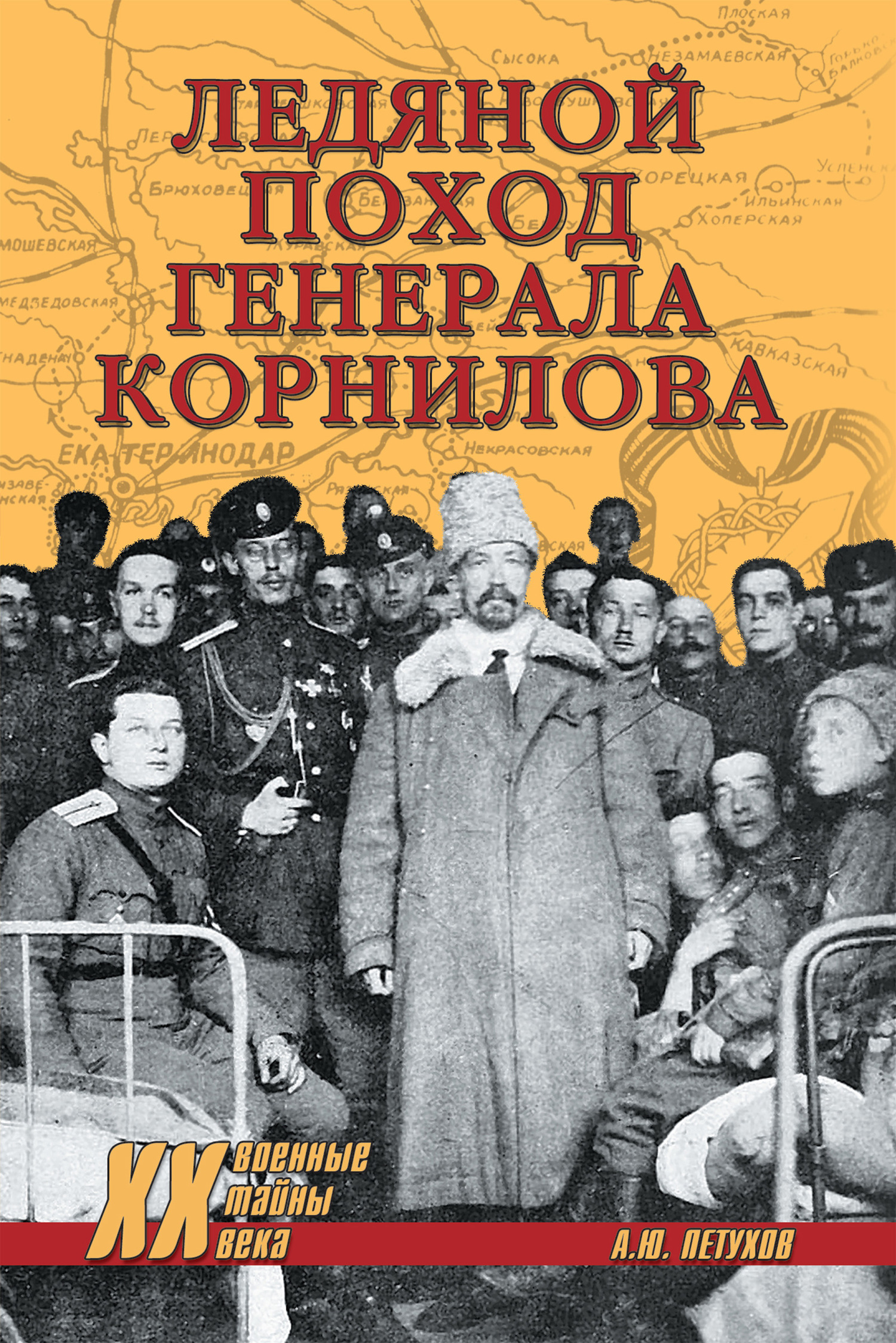дорог. Это резко снижало возможности по развертыванию войск и средств их усиления для осуществления прорыва, а также ограничивало свободу маневра наступавших. Учитывая все это, генерал армии Баграмян решил значительно расширить участок прорыва, прорвать оборону врага на смежных флангах 6-й гвардейской и 43-й армий на участке шириной 25 км. Это шло вразрез с установившейся практикой, когда прочную долговременную оборону противника в благоприятных условиях местности обычно прорывали на сравнительно узком участке – в среднем от 5 до 7 км на армию. Но в данном случае, по мнению командующего фронтом, было оправданным решением. Оперативное построение ударной группировки фронта было в один эшелон с выделением 1-го танкового корпуса в качестве фронтовой подвижной группы.
Операцию намечалось провести в три этапа: на первом – взломать оборону противника на 25-километровом участке от населенного пункта Болотовка до Тошник в стыке групп армий «Север» и «Центр» на всю глубину тактической зоны; на втором – ввести в прорыв в направлении Сиротино, Бешенковичи фронтовую подвижную группу, с ходу форсировать Западную Двину, захватить на ее левом берегу плацдармы и одновременно правофланговыми соединениями 43-й армии во взаимодействии с 39-й армией 3-го Белорусского фронта окружить и уничтожить витебскую группировку противника; на третьем – форсировать р. Улла, разгромить полоцкую и лепельскую группировки противника и овладеть городами Полоцк, Лепель и Камень, а на 10—11-й день операции выйти на рубеж Зеленый Городок, Крулевщизна. Остальные силы фронта вошли в две группировки, предназначенные для нанесения вспомогательных ударов в полосах 4-й ударной армии на Полоцк и 43-й армий с целью расширения прорыва в сторону фланга и ведения наступления вдоль железной дороги на Витебск с северо-запада.
Для осуществления прорыва генерал армии Баграмян решил привлечь четыре стрелковых корпуса 6-й гвардейской армии и два корпуса 43-й армии, а также 3-ю воздушную армию, все резервы и 1-й танковый корпус. Учитывая это, 43-й армии был назначен участок прорыва шириной 7 км, а 6-й гвардейской армии – 18 км. И.Х. Баграмян пишет, что всего на участке прорыва, составлявшем по протяженности лишь седьмую часть всей полосы действий фронта, сосредоточивались три четверти стрелковых дивизий, все танковые и самоходные артиллерийские части и 90 % артиллерии. Эти данные практически не расходятся со сведениями генерал-полковника артиллерии Н.М. Хлебникова, за исключением того, что на участке прорыва было сосредоточено 87 % артиллерии[81].
В мемуарах И.Х. Баграмяна приводятся и цифры, характеризующие сосредоточение средств на участке прорыва: 3760 орудий и минометов из 4900 имевшихся во фронте, а также 535 танков и самоходных орудий из 687. Но простой подсчет показывает, что на участке прорыва было сосредоточено почти 77 % орудий и минометов, 78 % танков и САУ. На остальном 135-километровом участке фронта были оставлены кроме стрелковых дивизий части укрепленного района и одна стрелковая бригада.
С целью обеспечения надежного огневого поражения противника в 6-й гвардейской и 43-й армиях были созданы сильные артиллерийские группы (соответственно по четыре и две пушечные артиллерийские бригады). Артиллерийские группы в стрелковых корпусах включали от 5 до 12 дивизионов. В дивизиях создавались артиллерийские группы прорыва, а в полках – группы поддержки пехоты.
Генерал армии Баграмян, планируя прорвать вражескую оборону сразу на 25-километровом участке и создать артиллерийские плотности в 160 стволов на каждый километр прорыва, поставил командующего артиллерией 1-го Прибалтийского фронта генерал-лейтенанта артиллерии Хлебникова в трудное положение. «Эта цифра большая, значительно превышающая возможности, которыми мы располагали, – вспоминал Хлебников. – Признаюсь, в первый момент она показалась мне нереальной. Я просил командующего сократить фронт прорыва хотя бы на 3—4 километра. Он был неумолим. Пришлось мне нажать на артснабженцев, на артиллерийские мастерские, где ремонтировались вышедшие из строя орудия и минометы. Ремонтники работали днем и ночью, их самоотверженный труд позволил не только выполнить, но и перевыполнить задание командующего. К началу наступления на каждый километр участка прорыва приходилось по 161 орудию и миномету, из которых более половины – калибра 120 мм и выше»[82].
На авиацию возлагались следующие задачи: прикрыть главные силы в исходном положении и в ходе наступления; подавить узлы сопротивления врага; воспретить подход его резервов из районов Полоцка, Лепеля и Чашников; обеспечить ввод в прорыв 1-го танкового корпуса и содействовать ему в продвижении к Бешенковичам, а также в захвате переправ через Западную Двину.
В связи с тем, что исходный район для наступления находился на лесисто-болотистой местности, под руководством начальника инженерных войск генерал-майора инженерных войск В.В. Косарева были проведены масштабные работы по подготовке дорог и прокладке колонных путей. Инженерные части фронта улучшили 530 км грунтовых дорог, построили 62 км деревянных колейных переходов, 2 км мостов и заготовили элементов щитовой дороги на 10 км[83]. На участках, где наступление должно было начинаться с форсирования рек (Проня, Друть и др.) и с преодолением болот, саперы сосредоточили к месту работ переправочные средства, детали дорожно-мостовых конструкций, средства преодоления болот. При завершении подготовки операции главные силы инженерных войск фронтов были переключены на устройство проходов в минных полях.
Командующий 1-м Прибалтийским фронтом, придавая большое значение вопросам подготовки и осуществления форсирования водных преград, 18 июня направил командующим армиями приказ № 02160[84]. В нем отмечалось: «Захват существующих мостов, паромов и бродов с хода является самым лучшим решением вопроса преодоления больших водных преград при наступлении. Это достигается стремительным движением вперед передовых отрядов пехоты, танков, артиллерии и сапер. Горячим желанием захватить переправы с хода должны быть охвачены все рядовые, сержанты, офицеры и генералы наступающих частей и соединений. Могучая вера в успех преодоления реки должна сломить все возникающие на поле боя препятствия». После захвата переправ с хода требовалось овладеть плацдармами на противоположном берегу и закрепиться на них. Если переправы не удастся захватить с хода, то предписывалось начать немедленное форсирование реки на подручных средствах, не ожидая подхода саперных подразделений. При этом следовало преодолевать водные преграды вплавь, используя доски, бревна, бочки, вязанки хвороста, плоты, плавательные костюмы и жилеты, лодки. В приказе отмечалось, что успех форсирования с хода достигается: внезапным появлением передовых частей на реке; короткой, но тщательной разведкой противника, реки и местности; энергичным сбором местных лодок и подручных материалов для устройства плотиков и паромов; быстротой наращивания сил и средств подавления противника; быстрым выдвижением легких табельных переправочных средств на берег одновременно с выходом на него пехоты. Далее в приказе излагалась последовательность форсирования водных преград с использованием табельных переправочных средств, в том числе тяжелых понтонных парков.
При подготовке к операции были в целом успешно решены вопросы ее тылового обеспечения. К началу наступления 1-й Прибалтийский фронт имел от