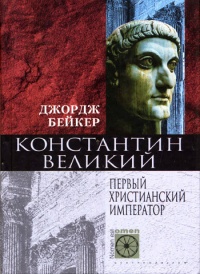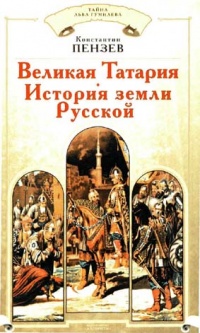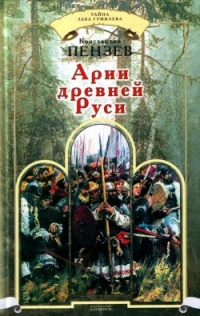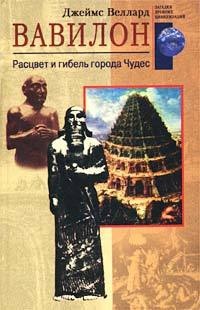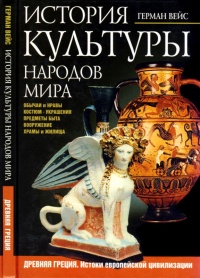Почетная гвардия, которая всегда изображалась стоящей вокруг трона императора, здесь представлена без оборонительного оружия (рис. 47, а), но в воинском одеянии, прикрывающем все тело, кроме ног (рис. 47, б, в), которые закрыты узкими штанами типа трико, украшенными разноцветными поперечными полосами, и полусапожками с подобными украшениями (рис. 43).
Византийские императоры, как и в свое время западноримские, постоянно укомплектовывали регулярную армию иноземными наемниками, преимущественно франками, а также целыми полчищами вспомогательных войск из азиатов.
Последние сохраняли свойственное каждому их племени национальное оружие, поэтому все войско представляло собой чрезвычайно разнообразную смесь костюмов и вооружения.
Изображения воинов из некоторых таких войск встречаются во многих произведениях искусства, относящихся к различным эпохам (рис. 48, а — в).
Рис. 48
* * *
Сохранилось немало письменных памятников и изображений, в которых можно найти подробное описание облачения священнослужителей. На основании этих источников можно сделать вывод, что вплоть до VI в. форма одежды духовных лиц строго не регламентировалась и не подчинялась определенным правилам.
Однако имеются свидетельства, что еще во II в. некоторыми настоятелями христианских общин, например Пием I в Аквилее (158 г.) и его преемником Аникитой (167 г.) были сделаны попытки установить особую одежду для отличия духовных лиц от мирян. Многочисленные упоминания, вплоть до VI в., служат доказательством того, что в то время не существовало никакого различия между одеждой духовных лиц и мирян.
Все сведения касаются только мирской одежды, например туники с поясом, пенулы, дорожной накидки с капюшоном или без него, столы (верхней одежды) и далматики (одежды с короткими рукавами), так называемого колобия (нижнего платья без рукавов), а также ворсистых одеяний из грубой шерстяной ткани, окрашенных обычно в красный цвет, длиннополой туники, паллия (верхней одежды) и трибония (древнегреческого накидного плаща), а также обуви, в частности сандалий.
Даже если учесть информацию о пожалованных императором Константином патриарху Макарию богато украшенной столы и епископу Селиверсту I великолепной митры, его поступок можно объяснить исключительно случайным желанием императора почтить особой милостью представителей новой веры.
Можно также предположить, что различие между одеждой духовных лиц и одеждой мирян возникло из-за того, что последние приноравливались к требованиям моды, тогда как духовенство придерживалось традиционной римской одежды.
Наиболее достоверные сведения об особой форме одежды для духовенства встречаются не ранее середины VI века — времени царствования Юстиниана — в трудах некоторых древних авторов и в изображениях на памятниках.
О том, что одежда священнослужителей того времени сохраняла характер древнеримского костюма, свидетельствует мозаичное изображение в церкви св. Виталия в Равенне, на котором представлен патриарх Максимилиан и несколько других лиц духовного звания низшего сана (рис. 49, а, б, в; ср. рис. 25).
Рис. 49
Облачение архиерея (рис. 49, а) состояло из белой длинной столы, т. е. стихаря, из накинутой сверху пенулы зеленого цвета, фелони, на ноги надеты белые чулки и черные сандалии, на грудь и плечи возложена белая лента с черным крестом.
Единственный новый для архиерейской одежды предмет — нараменная лента. В целом облачение состоит из таких деталей одежды, которые издавна были в ходу римлян.
Возможно, эта лента не представляла собой особого знака достоинства, специально установленного только для духовных лиц. Скорее всего, она тоже ведет свое начало от какой-либо детали древнеримского костюма.
Не вдаваясь в оценку разнообразных предположений, встречающихся у древних и более поздних авторов, можно считать эту ленту видоизменением консульской перевязи, существовавшей еще при Константине Великом (см. рис. 33, а, в).
Возможно, право носить эту ленту перешло к высшему духовенству после смерти Юлиана, когда консульское достоинство утратило свое значение, а может быть, даже где-то в середине VI в., после того как эту должность последний раз занимало частное лицо.
Изображенный здесь шарф предельно упрощен и напоминает простую узкую ленту из белого холста. Причину такой простоты следует искать в распространившемся среди передовой части духовенства стремлении отрешиться от всякой внешней роскоши по примеру Спасителя и Его учеников.