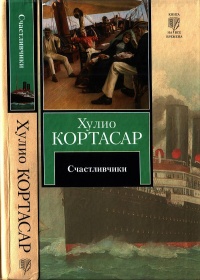— Dont’t you play me cheap Because I look so meek.[131]
И Бэбс выгибалась, сидя на коленях у Рональда, Сатчмо возбуждал ее своей манерой пения, тема была довольно заурядная, и можно было позволить себе некоторые шалости, на которые Рональд никогда бы не пошел, если бы Сатчмо пел Yellow Dog Blues, к тому же Рональд дышал ей в затылок водкой и кислой капустой, а это бешено заводило Бэбс. С высоты своей позиции, на вершине чего-то вроде пирамиды из дыма, музыки, водки, кислой капусты и рук Рональда, которые то и дело шарили по ее телу, Бэбс взирала из-под прикрытых век на Орасио, который сидел на полу, прислонившись спиной к звериной шкуре, курил и был уже совершенно пьян, с типичным для латиноамериканца выражением обиды и горечи на лице, иногда, между затяжками, он улыбался, вернее, губы Оливейры, которые Бэбс так хотела когда-то (не сейчас), кривились в улыбке, а лицо при этом оставалось каким-то размытым и отсутствующим. Как бы ему ни нравился джаз, эта игра никогда не захватывала Оливейру, как Рональда, независимо от того, хороший был джаз или плохой, cool или hot, черный или белый, старый или современный, чикагский или нью-орлеанский, джаз никогда не был для него тем, чем он был для Сатчмо, Рональда и Бэбс, Baby, dont’t you play me cheap because I look so meek, и потом внезапный зов трубы, желтый фаллос, разрывающий воздух сладострастными толчками, а в конце три нисходящих ноты, три гипнотических звука из чистого золота, абсолютная пауза, когда вся вибрация окружающего мира пульсирует одно невыносимое мгновение, словно моментальное извержение семени, которое стекает и падает, будто ракета в ночи, исполненной секса, рука Рональда, ласкающая шею Бэбс, шипение иглы, потому что пластинка все крутится, и тишина, которая присутствует в любой настоящей музыке, медленно отлепляется от стен, вылезает из-под дивана, раскрывается, как губы или цветочный бутон.
— Ça alors,[132] — сказал Этьен.
— Да, великая эпоха Армстронга, — сказал Рональд, просматривая стопку пластинок, которые отобрала Бэбс. — Как период гигантизма у Пикассо, если угодно. А сейчас это два старых борова. Рассчитывают, что врачи изобретут какое-нибудь средство для омоложения… Они еще лет двадцать будут нас иметь в хвост и в гриву, вот увидите.
— Нас не будут, — сказал Этьен. — Мы их уже послали подальше, причем давно, — даст бог, и меня пошлют, когда придет время.
— Когда придет время — всего ничего, приятель, — сказал Оливейра, зевая. — Но это точно — мы послали их подальше в изящной форме. Разить не пулей, а шипами роз, скажем так. Все, что они делают сейчас, — просто привычка, как под копирку, подумать только, когда Армстронг впервые приехал в Буэнос-Айрес, ты представить себе не можешь, сколько тысяч кретинов считали, что слушают посланца из других миров, а Сатч-мо со своими приемчиками, которых у него больше, чем у старого боксера, растолстевший, дряблый, упиханный деньгами, которому наплевать на то, как он поет, а поет он как заезженная пластинка, тем не менее некоторые из моих друзей, которых я очень уважаю и которые двадцать лет назад затыкали уши, когда слышали Mahogany Hall Stomp, сейчас платят, насколько я знаю, несметное количество денег, лишь бы послушать эту пережаренную дрянь. Правда, в моей стране предпочитают все пережаренное, должен подтвердить это со всей моей к ней любовью.
— Начиная с тебя, — сказал Перико, отрываясь от словаря. — Явился сюда, следуя обычаю своих соотечественников, которые тащатся в Париж за воспитанием чувств.[133] Черт, в Испании этому учатся в борделях и на корриде.
— И у графини Пардо Басан,[134] — сказал Оливейра, снова зевая. — В остальном ты прав, парень. На самом деле я бы должен сейчас сидеть и играть в карты с Травелером. Впрочем, ты его не знаешь. Ничего ты про это не знаешь. Так зачем говорить?