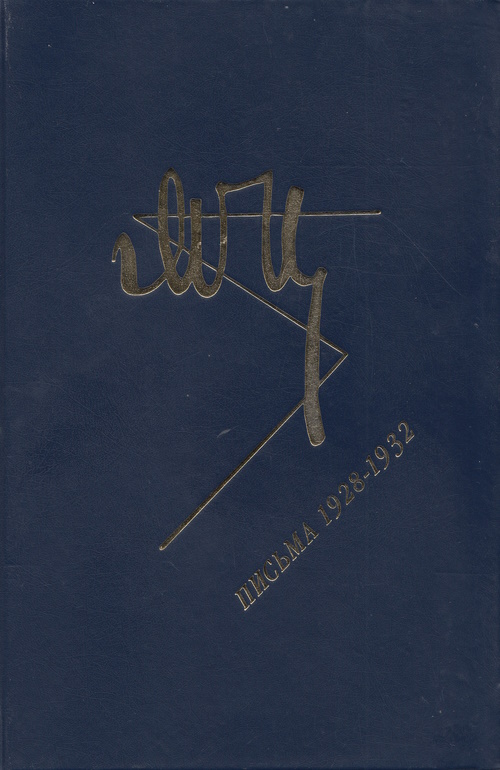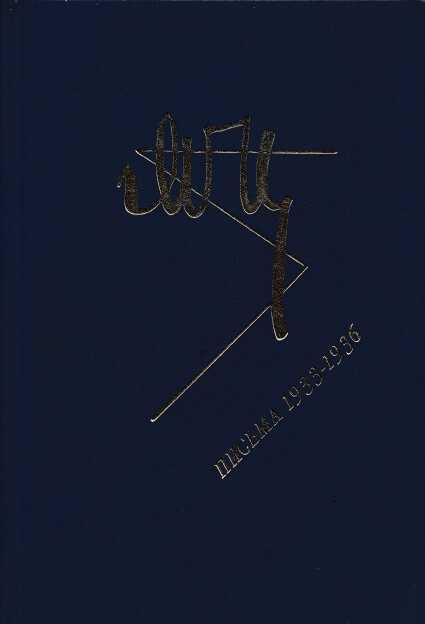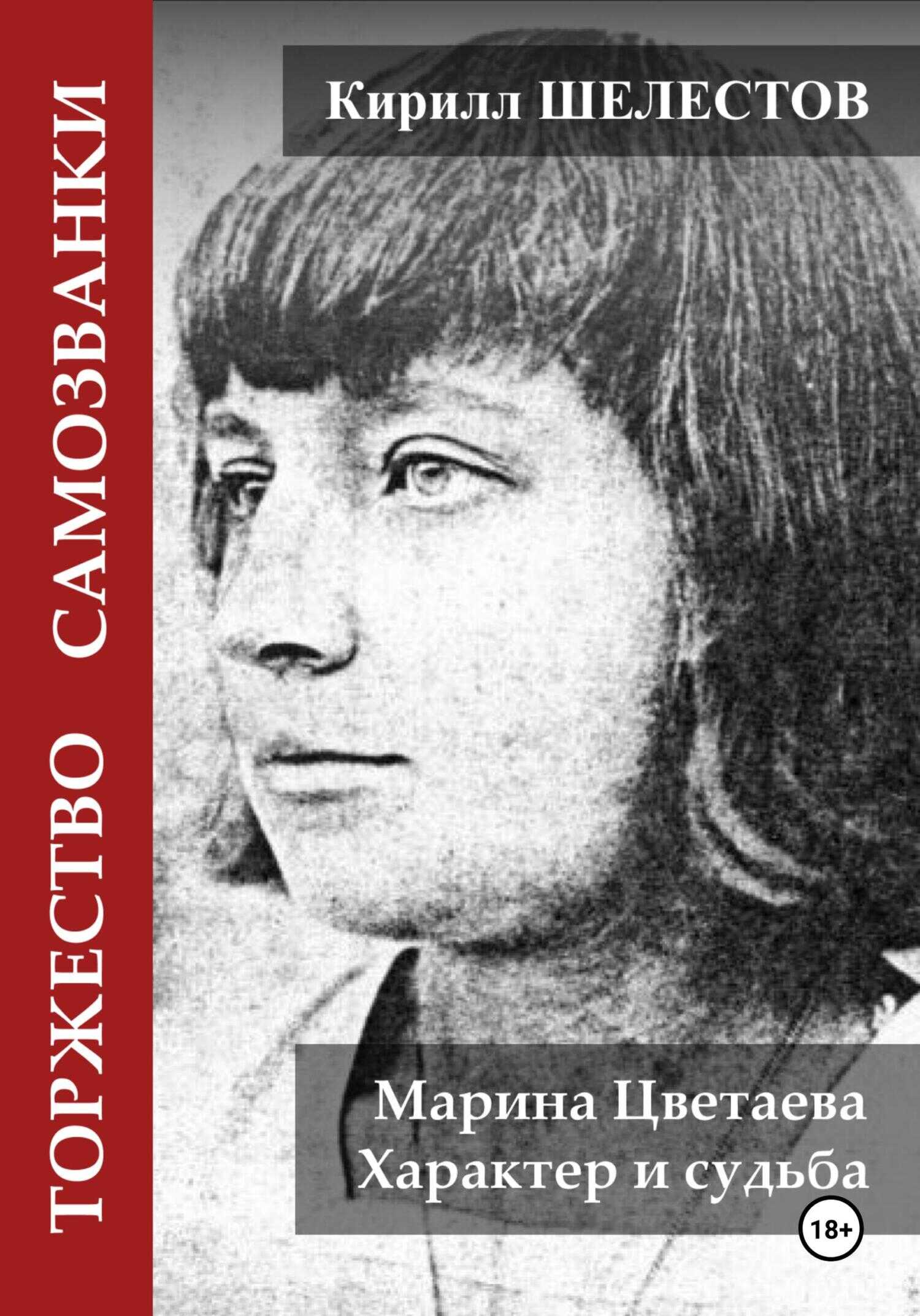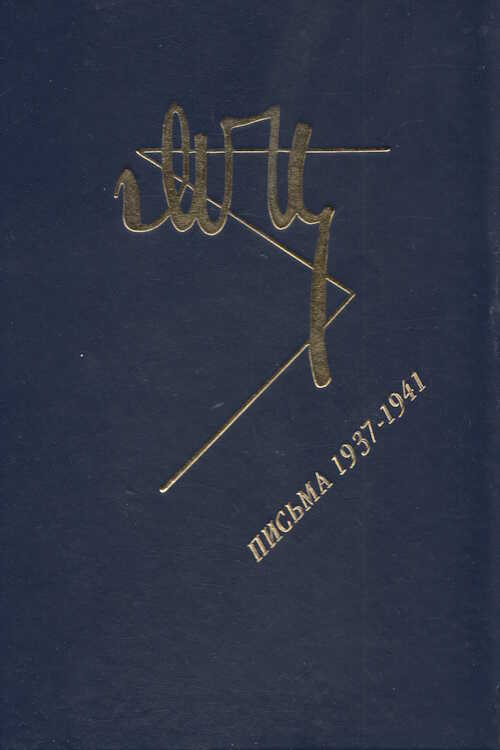бумажки – не те! за которые ему Мориц шею намылит, косо взглянул на Нику, подошёл к Толстому.
Ника стояла в тамбуре и под звуки дождя, при свете, падавшем из окошка, перебирала, идя мелкой дрожью, мусор, газеты, куски затоптанной белой бумаги, листочек поэмы, сырой, но ещё живой.
– А я што? Рази я знаю – бумажки? – трепал языком Матвей, поощряемый Толстяком. – Мне што? Как Мориц сказал – штоб в два щёта всё убрать в тамбуре, – я всё захватил и понёс… А куда нести? На помойку.
«Мориц! – повторила про себя Ника одним дыханием. – Нечаянно! По его приказу случилось!»
Но, должно быть, судьба решила, что на сегодня – довольно. Ника нашла бóльшую часть листков, может быть, вспомнит наизусть остальное? Но нацело пропала работа всего дня, так удачно сделавшая целое – из разрозненного, это не воссоздать меж рабочих часов, после вчерашнего дня! В каком-то озареньи работалось. Держа в руках мокрое, с потёкшими строчками, она счастливо улыбалась: миновала опасность прочтения поэмы – посторонним. Счастье, что Матвей «схватил – и понёс!». В сто раз лучше помойка, часть поглотившая, чем вынесение Морица и себя – на позор. И вдруг – разрядкой всего дня – у Ники начался смех! В первый раз она поняла, перебирая листки, что путного о женщинах, о тех – не написалось! Жило в поэме только двое: герой и – автор. Странным образом погибла в мусоре главка – о Женни. Порванная, но уцелела – Нора… Вернулись в прошлое, не став настоящим, все остальные тени – собственно, только намётка на них! Ну так что ж? Она уже не смеялась: «Всё равно бы он их не признал за своих, вины моей нет: я так старалась». Тут она вдруг вспомнила, что ведь и белья её – нет… Целой стопки! Она совсем позабыла о нём! Такая беловоронья сущность, за неё Мориц бы упрекнул её: не словами, а тем, как он бросился бы искать бельё, своё. Почему ей всё равно, что белья нет? От усталости? Неужели его – искать? Она шарила по полу – нет ли его тут где-то. Нашла у бачка с водой затопленное кем-то, скинул – унося скамейку (не Матвей!..). Это её взорвало. Раньше, чем она успела подумать: «Кто скинул моё бельё, чистое, на пол?» – услышала она свой звонкий, негодующий голос.
– Кто взял скамейку?!
– Какое ещё там бельё! – отозвался бешеным криком Толстяк. – Вы, Ника, мне попадётесь под горячую руку – не обижайтесь!
«Значит, Морица нет, если он так обнаглел… – мелькнуло в ней. – Значит, Мориц уже пошёл – лечь! Спит, может быть, – после бессонной ночи».
– А идите вы – в хорошее место! – крикнула Ника и подивилась мощности, бесстрашию своего голоса в борьбе с наглецом. – Боюсь я ваших горячих рук! – оч-чень!
Они стояли друг против друга. Она протянула к нему свисавшее с её рук бельё, смятое, со следами земли. И внезапно Толстяк – померк. Она повернулась и пошла прочь.
«Отчего на душе мир? Оттого, что Толстяку стало жаль белья? Нет: голос Морица – она заметила – уже не был хриплым…» Она глядела в тёмный потолок, думала о поэме. Снова будет бессонная ночь? Её тревожило то, что она не видела свою натуру – скульптурно: вокруг Морица не обойдёшь. Что делает, например, он в природе? Ему бы – кажется ей – было бы везде то душно, то неустроенно… то муки – он бы всё стремился уехать куда-то – где лучше! Скорее всего, кабы мог – сел на пароход и уехал куда-нибудь (неосознанно!) – средостение к природе видеть её, чувствовать, но от неё не зависеть, ехать на каком-нибудь механизме (интересно, сколько километров в час, марка?). Какого строения мимо плывущая гора? – и лежать не на дикой траве, а в шезлонге…
Так это в нём, не так? Если не так – чем он составляет о себе такое впечатление? (Оставляет, составляет? – и так, и так можно). Если это аберрация? За окном грузовая машина медленно проехала неширокой дорогой между бараками. Луч света прошёл по стене.
…Мориц – изнежен? В быту – как кот Синьор: съест кусок вмиг, а моется потом полчаса! И ничего не решишь о Морице, – сама Жизнь! Только она установила, что он к её здоровью, быту, сну – безразличен, как он входит с пакетом и – вбок глядя: не надо ли ей масла? Ему достали, а у него ещё есть. Положил пакет ей на стол, точно он жёг руки (запомнил её слова Жоржу, что без мяса жить можно, без масла – нет?!).
Есть два типа, думает Ника: одни, как клюква в сахаре, он сверху, а внутри – кисло. Другие, как орех: сверху кора, а внутри – концентрат питанья и вкуса. Мориц – второго типа. А как я о нём пишу? В поэму надо дать свет не менее ярко, чем тьму. Это трудно, даже Данте не удалось: «Ад» – силён, «Рай» – слаб. Зло – живописно, его каждый жест – складка тоги. А добро – застенчиво, избегает жеста… А у меня что в поэме: каждый тёмный жест дорос до трагедийности, а по существу, с Морицем то же, что со мной: сердце не соглашается с моими выкладками здравого смысла о нём – как у него во всей его жизни.
Он движенья сердца оценивает как слабость, но не это важно. Это же опять выкладка здравого смысла – о сердце! Важно, что действует он по велению сердца, не по рассудку. Вся эта история с «балаганом», пережитая мной как удар!.. Как непоправимое, когда просто обмолвился человек, потом – заупрямился. Ведь он временами сам чувствует своё мальчишество. Глупость, смешная во взрослом. А ты не поняла? Вот так – автор!
Устало работала она наутро и в перерыве взялась за поэму. Не клеилось. Мориц в бюро писал что-то, должно быть, письмо домой. По радио передавали цифровой агрономический материал. Ника выдернула штепсель: «Ах, это радио!» У Морица иронически дрогнула бровь, но он ничего не сказал. Позже Худой вставил штепсель – уже была музыка. Ника всё продиралась сквозь дебри. Перерыв шёл к концу. Зашипела-закачалась невидимая грампластинка, и голос начал цыганскую песнь.
– Выключить? – спросил, привстав, непередаваемым тоном Мориц (сколько в нём было тёплой, ледком покрытой игры). – Вам мешает?
Но Нике – поэма не ладилась – этот тон показался ударом.
– Можно выключить… – отвечала она с деланным равнодушием.
Пожалел ли Мориц её, не хотел углублять «размолвку»? Он не встал, спешно кончал письмо