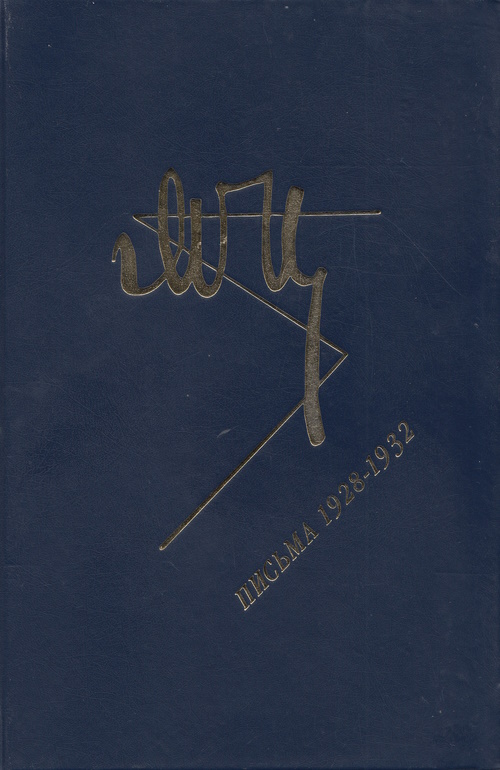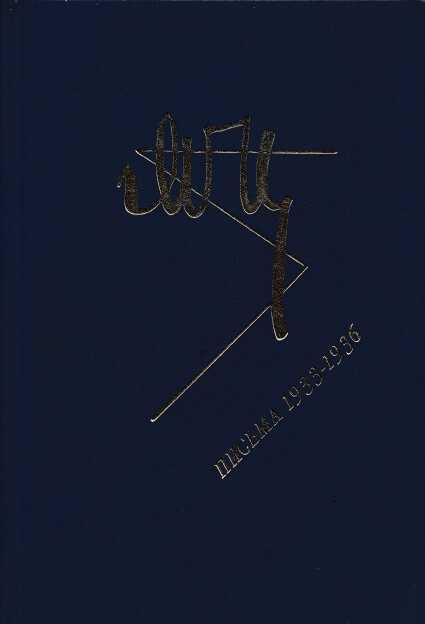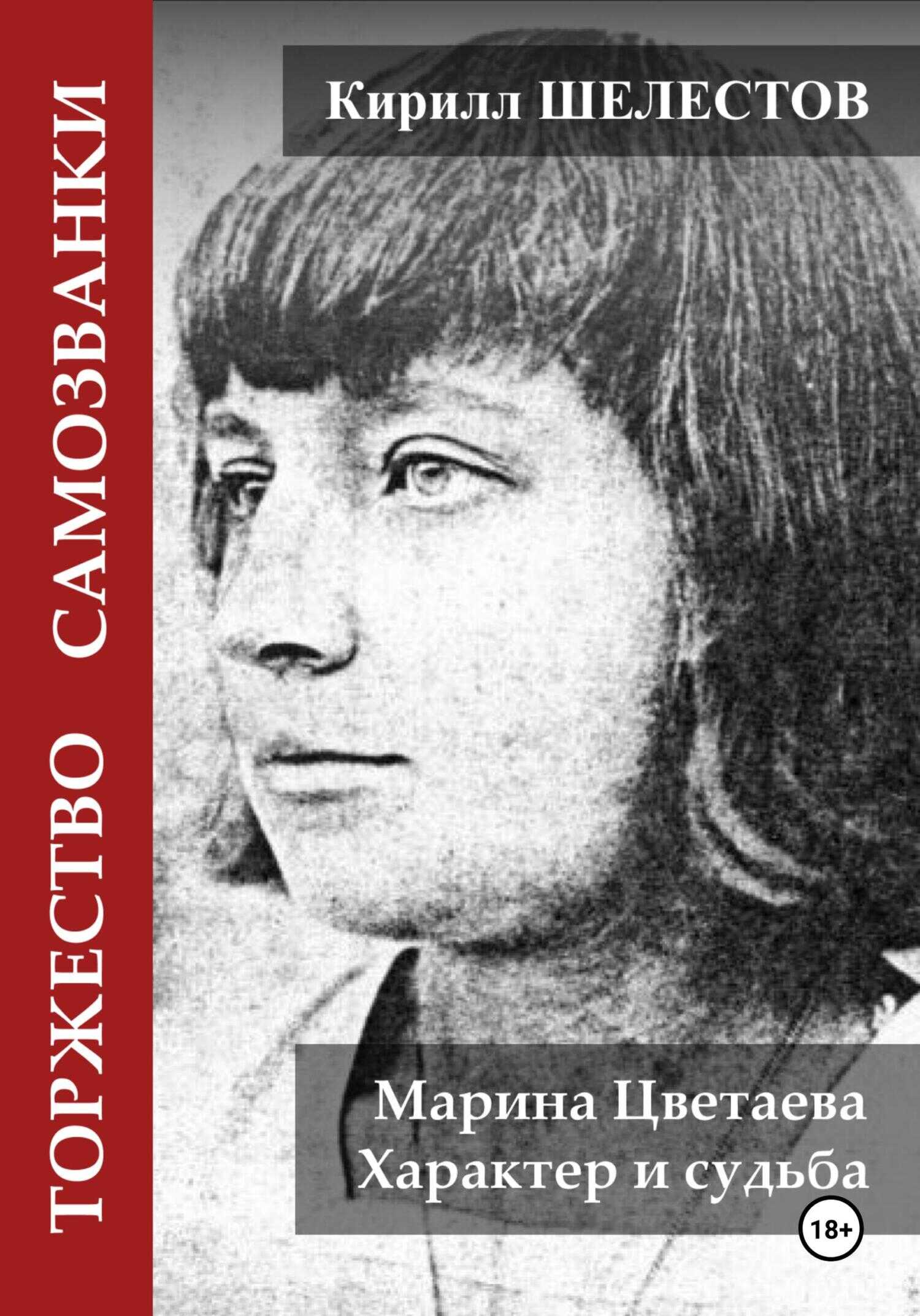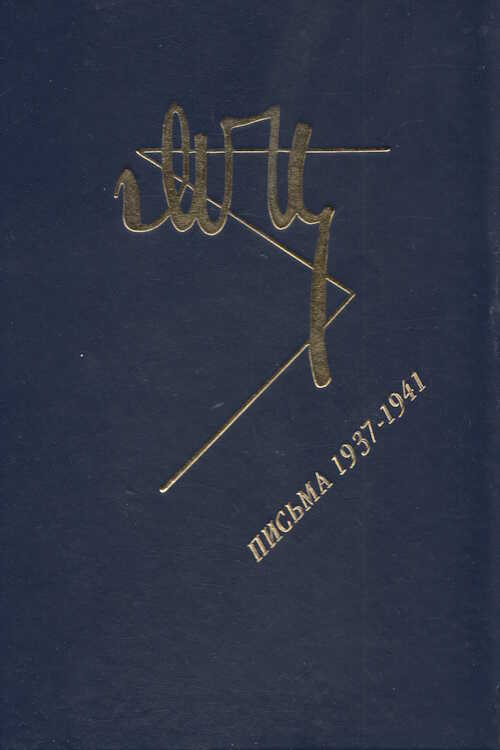другу». Сердце играло: значит, та любовь к сыну, который так далеко, была больше этой? И всё же…
Беда – грянула!
Ликвидком стал – явью. Всех женщин пересылали далеко на север, на Аван, на кирпичный завод. Мориц уже ничем не мог помочь Нике, никаким авторитетом своим у управленческого начальства.
Намечалось число этапа.
Женщины метались, укладывались.
Очень трудно не смеяться, когда Мориц улыбается лукаво, как бы приглашая на танец. Она улыбается тоже, но ему «улыбнуться» – мало! Он вызывает её на смех – настоящий! О, он добьётся! Hа ближайшие пять минут он это делает – целью. И он достигает её. Ника чувствует, как всё в Морице играет, как в те майские позапрошлогодние дни, ему нужно сейчас её любование! («Почему это так, – несётся в ней тёплым и горьким вихрем, – чтобы он был мой, когда я должна от него удаляться? Как только меж нас дистанция – он делается моим? Голова кружится от этого круговорота дистанций… Мориц так явно меня завлекает собой сейчас!»)
Они пьют из чашек чай. Он рассказывает ей об Афинах (закрыл дверь в бюро – не мешать работать Худому, чуть ли не в первый раз засидевшемуся в перерыв…). Ника слушает как сквозь сон:
– Жёлто-голубой город! Пыль – жёлтая, розовая. Колорит Афин – незабываемый (Ника помнит сходные с этим слова в рассказе об этом же городе – отца её, в детстве – как удивительно переплетается всё!).
– Эта известковая пыль – и синее небо! Синее, не голубое! И солнечные лучи – какие-то удивительные! Я был на Акрополе несколько часов – с середины дня до захода солнца. Лучше всего там сохранился Парфенон – розовый мрамор, символ мужественности! А Эрехтейон – воплощение женственности… (На миг она перестаёт слушать, – смотрит!) Он белый, вообще говоря, мрамор, но, когда заходит солнце, Парфенон становится от золотистого цвета до рубинового почти; мрамор – живёт. А Эрехтейон проходит через все оттенки – от жёлто-зеленовато-синеватого до фиолетового. – Глаза Морица смотрят вдаль – вот таким она его запомнит. – В Париже – вы знаете? точная копия Парфенона – он втиснут в узкие бульвары Парижа – это блёкло, мертво! Без афинского неба. Там сохранился цирк первого века, Ареопаг, – скала немножко ниже Акрополя… – Он кладёт в рот печенье, мягко откусывает его и, увлечённо: – Мне хотелось бы – на миг! увидеть на сохранившемся мраморном постаменте давно снятую литую из золота статую Афины Паллады, которая сияла далеко за пределами города под лучами афинского солнца. – Он наливает ещё чая, и, отпив: – С горы Ликабет открывается чудеснейший вид на Акрополь и на Пирейскую бухту. (Причём машинам запрещено почему-то пользоваться естественными гудками, у всех – какие-то пищалки с резиновыми грушами.) Вы стоите на Акрополе – и весь город в облаке этой золотящейся пыли, и сплошной звук пищалок, последнее – очень смешно, и смешно, что у каждого магазина мальчик, который стирает с вашей обуви шелковистой щёточкой – известковую пыль. – Мориц отставляет чашку и закуривает. – Я видел изумительную вещь: я видел статую, сетями окружённую (рыбаки, пирейские), Геркулеса. Этот в полном смысле слова – шедевр, проходящий ряд химических ванн, – в одной из них я видел его лежащим и директора музея, фанатика, старика, хлопочущего вокруг него. Я был в «залах любви» – это залы, закрытые для широкой публики, вход туда – лишь по разрешению директора, научного работника – людям искусства, видящим в этом не порнографию. Это, главным образом, амфоры – фресковая тончайшая живопись, где изображена любовь во всех её проявлениях, – и сделано это так чисто, – огромная, жизнеутверждающая сила, гимн человеческому чувству.
– «Amor»! – говорит она, и вдруг большая тёплая радость – как в тех залах радость искусства – наполняет её. – Я нашла название для поэмы! – она говорит скромно, чуть поёживаясь. Я сегодня кончу переписывать! Я её назову – «Amor».
Иногда приходила в бюро с поручениями из другой колонны женщина – именем Дина, в прошлом химик. Высокая, плотная, умница, обладающая природным весельем, несмотря на свою страшную судьбу. Фамилия её была Корнилова, и говорили, за эту фамилию она когда-то получила срок. На воле, у мужа, остался её семилетний сын, повсюду за матерью ходивший, за что прозвали его Хвостинька. Муж поспешил отречься от жены.
Ей было неведомо, что через годы – когда она увидит сына уже семнадцатилетним, стоя на пороге, он ей скажет;
– Я не намерен разговаривать с врагом народа!
Однажды она вместе с деловыми бумагами принесла кошечку, совсем ещё маленькую, белую с серым.
– Её зовут Мурыся, – сказала Дина деловито, как всё, что она говорила, забрала чертежи и ушла. И как-то так вышло, что Мурыся стала Никиной собственностью.
Она росла, умнела, знала, кто её любит, кто же – нет, и в рабочие часы спала непробудным сном на Никином столе, сбоку.
Дни шли, плавясь в месяцы. Мурыся стала красавицей необычайно изнеженного типа: каждая поза была – картина, и кокетству её не было конца.
Но когда Ника однажды с гордостью повторила слова Морица, что Мурыся – «сама женственность», уборщица Лена подняла её на смех:
– Сразу инженер виден, Мориц ваш! Женственность! Это ж кот! Ещё Мурысей зовёте!
Смущённая, не веря, Ника было бросилась в спор, но была всем хором женщин брошена на лопатки.
И стала Мурыся – котом. Не смущаясь номинальным изменениям своей судьбы, он так же изящно ловил лапами солнечные лучи, перекатываясь на пушистой спине по дощатому полу, – и всё рос, хорошея. Одной из его забав было – считать на счётах. Только раньше он проваливался лапками меж прутьев, теперь, лёжа, занимая их почти целиком, цепкой белой пятернёй ловил убегавшие шарики.
Так прошёл год. И вот грянула весть о женском этапе.
Мурыся перестал есть. Заболел, явно. Он не сходил с Никиного топчана, не ходил к своей миске, но однажды ночью удивил: бросился на уроненный сухарь и жадно его сгрыз.
– Да не болен он, твой кот, мать! – сказала одна из женщин, подметавшая комнату. – Это он, знаешь что, – тоскует!.. Понимает, что едем мы…
Никины вещи уже лежали завязанные на топчане. Она что-то читала. Вдруг Мурыся встал, прыгнул на задние лапы, передние – ей на плечи, стал неистово (истово!) ласкаться, обнимая, прижимая голову о грудь, тёрся подбородком об неё…
– Ты гляди! Ты гляди, что делает! – говорила уборщица.
– Кабы наши мужики с нами так прощались…
Кот, оторвавшись от Ники, прыгнул на окно и выскочил в форточку. Только мелькнул пёстрый хвост.
Больше его не видели.
Ника кончала перечитывать своё