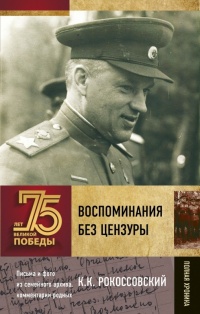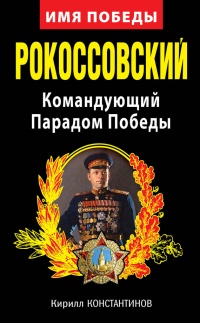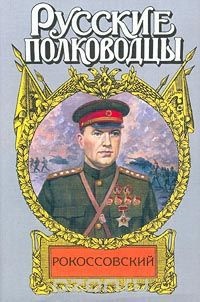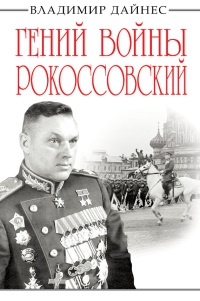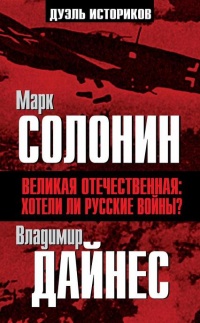Вот это здорово! Ивана заманили, Ивану насулили, Ивана натравили, Пока он нужен был, чтоб к Балтике протопать… Солдат, с которым я лежал в болотах Ильмень-озера, Солдат, с которым нас в упор клевал одномоторный «Юнкерс», — Его — расстреливать? За то, что взял часишки «Мозера»? И даже пусть — что затащил девчонку в бункер? Прощаясь с жизнью там, в орловской ржи, В паленых запахах, в дыму, Я жал к земле его — не наша, может быть, лежи! лежи! И на него теперь я руку подыму? Вы перед наступлением не так ли непреложно Приказ оправдывали противоположный?
Разумеется, с такими настроениями как среди офицеров, так, и в еще большей степени, среди рядовых красноармейцев, приказ Рокоссовского, как и аналогичные приказы других командующих фронтами, требовавшие прекратить грабежи, насилия и убийства и грозившие самыми суровыми карами, вплоть до расстрела на месте, во многом оставались на бумаге. Среди военнослужащих царила круговая порука, и командиры всячески выгораживали своих подчиненных, обвиненных в преступлениях против немцев. Но важно здесь уже само намерение. Рокоссовский первым из командующих издал приказ, требующий прекратить насилие против мирного немецкого населения. И это совсем не случайно. Константин Константинович всегда щепетильно относился к вопросам воинской чести. Ему было очень больно, что его подчиненные совершали преступления против военнопленных и мирного населения. Рокоссовский всегда стремился вести себя по-рыцарски и считал, что нельзя мстить поверженному врагу. Только вот его генералы, офицеры и солдаты очень часто вели себя не как рыцари. Например, генерал К. Ф. Телегин, с которым они вместе прошли путь от Сталинграда до Вислы, позднее в Германии заболел «трофейной лихорадкой» и целыми вагонами гнал в СССР мебель и другое имущество. Когда его арестовали по «делу Жукова», незаконное присвоение трофейного имущества стало одним из пунктов обвинения.
Э. Бивор приводит следующий характерный эпизод: «10 апреля 1945 года Петр Митрофанович Себелев, ставший подполковником всего в двадцать два года, писал домой, что на фронте установилась необычная и поэтому пугающая тишина… А всего за два часа до того, как он взялся писать письмо, разведчики привели к нему пленного немецкого капрала. Тот сразу же спросил: „Где я нахожусь, господин офицер? В войсках Жукова или в банде Рокоссовского?“ Себелев засмеялся и сказал немцу, что он находится в войсках 1-го Белорусского фронта, которыми командует маршал Жуков. Но его очень заинтересовало, почему пленный капрал назвал части маршала Рокоссовского „бандой“. Немец ответил: „Они не соблюдают правила войны, вот почему германские солдаты называют их бандой“».
Очевидно, у армий Рокоссовского была дурная репутация в плане расправ над пленными. Однако в войсках Жукова с этим дело обстояло ничуть не лучше. Об этом свидетельствует, в частности, С. Вогулов: «…B русской армии было обыденным явлением расстрел пленных немцев конвоирами и „воинственными“ тыловиками… И после этого никакого приказа, никакого наказания. Можно привести десятки таких примеров, когда какой-нибудь разъяренный командир полка расстреливал лично сотни пленных, только потому, что какая-то шальная пуля убила его полевую жену. В этой последней операции (наступлению на Берлин. — Б. С.) на отношение к сдающемуся врагу тоже обратили внимание и строго запретили расстрел пленных. Но было поздно: немецкая армия сдавалась союзникам, а на нашем участке фронта она дралась насмерть».
Командир полка, лично расстреливающий сотни пленных, — несомненно, поэтическое преувеличение. Даже профессиональные ежовско-бериевские палачи, набившие, что называется, руку в своем ремесле, ежедневно расстреливали от силы несколько десятков. Например, 14,7 тысячи польских офицеров в 1940 году расстреливали на протяжении примерно 45 дней в трех местах, так что на каждый пункт расстрела в среднем в день приходилось немногим менее 100 человек — и это притом что в каждом пункте было по несколько исполнителей. Но действительно, все приказы о том, чтобы не расстреливать пленных, в Красной армии оставались пустым звуком, поскольку никто и никогда за расстрел пленных наказан не был.
Солженицын в поэме «Прусские ночи», ставшей позднее главой повести в стихах «Дороженька», описал картины эпически-безумного грабежа:
Кто-то выбил дверь в Gasthaus И оттуда прет рояль. В дверь не лезет. И с восторгом Бьет лопатой по струнам: «Ах ты, утварь! Значит, нам Не достанешься, бойцам? — Не оставлю военторгу, Интендантам и штабам!»
Дальше автор описывает расстрел молодой немки, чувствуя за него и свою вину:
Оглянулась — Поняла! — Завизжала, в снег упала И комочком замерла, Как зверок недвижный, желтый… Автомат еще не щелкал Миг, другой. Я — зачем махнул рукой?! Боже мой! «Машина, стой! Эй, ребята!..» Автоматы — очередь. И — по местам…
Только 20 апреля 1945 года была издана директива Ставки Верховного главнокомандования «Об изменении отношения к немецким военнопленным и гражданскому населению». Она была адресована командующим 1-ым Белорусским и 1-ым Украинским фронтами, но фактически стала руководством к действию на всех фронтах. Эта директива гласила:
«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: