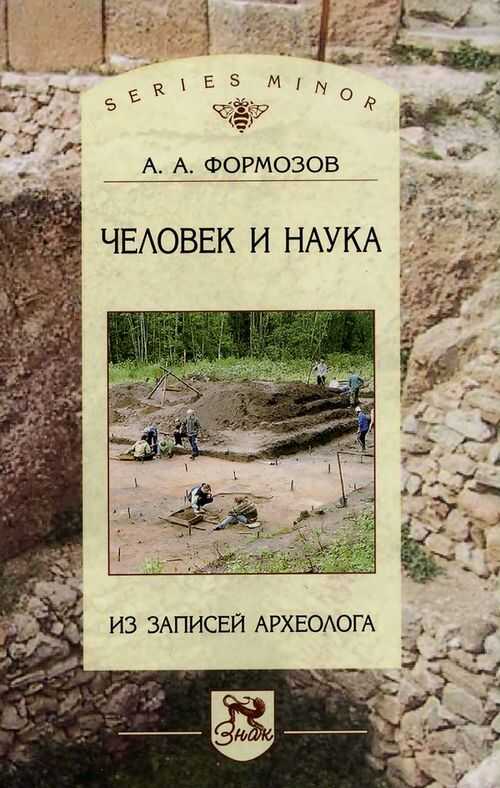Петроград – бурлил.
Вардван Варжапетян в своей повести «„Исповедь антисемита“, или К истории одной статьи» приводит голоса многих участников тиняковской истории. Вот журналист Илья Василевский, больше известный как Не-Буква, скрывшийся на сей раз под псевдонимом И.Накатов в «Журнале журналов» (1916, № 5). Статья называется «Меж двух алтарей», и, по-моему, это самый разумный и здравый голос в том бурлении:
В своем письме в редакцию «Журнала Журналов» (имеется в виду «Исповедь антисемита». – Р.С.), которое, как тяжелый булыжник, упало на спокойную гладь нашего литературного озера, г. Александр Тиняков предупреждает, что он хлопочет не о «жалости», а о справедливости. Прекрасно, будем к нему только справедливы.
<…> В своем письме он все время подчеркивает, что поступал «необдуманно, но искренно и, в сущности, честно». Вот этой-то именно искренности и честности при всем желании нельзя найти в его письме. Прежде всего, сколько ни трудись над перечитыванием письма, остается неясным, окончательно ли порвал Тиняков со своим антисемитским прошлым, или нить, связывавшая его в дни процесса Бейлиса с «Земщиной», не порвана. С одной стороны, он говорит о возможности постепенных изменений убеждений и о переворотах, которые вполне возможны у мыслящих людей; с одной стороны, он признает, что «несколько лет тому назад временно шел по ложному пути озлобленного юдофобства» и свое прошлое считает «печальной юношеской ошибкой»; с другой же стороны, он тут же рядом с каким-то задором похваляется, что «ничего позорного в моем участии в „Земщине“ до сих пор не вижу». <…> Юдофобство он, по-видимому, все же не осуждает, как символ веры, – он только признаёт его «явлением недостаточно разумным», и не потому что в нем мало здравого смысла вообще, а потому что «у русского народа нет основательных причин для того, чтобы придавать слишком большое значение еврейскому народу».
Невольно является подозрение, что Тиняков предусмотрительно оставляет себе лазейку. И собственно, не одну, а две лазейки: в ту и в другую стороны. <…> Он сам, впрочем, указывает «во-вторых» (об этом следовало бы указать во-первых), что «ни о каком „коренном“ перевороте… нельзя говорить просто потому, что в „Земщине“ я писал о событиях исключительно общественных, а в „Речи“ о явлениях исключительно литературных». Т. е.? Как это понять? В том ли, может быть, смысл, что против своих прежних антисемитских проповедей он доселе не прегрешил в прогрессивных изданиях ни единым звуком и, значит, вправе всегда их повторить с гордо поднятой головой?.. <…>
Прогрессивному лагерю нет смысла травить литератора за «печальную юношескую ошибку». Какая, в самом деле, выгода гнать от себя даровитого человека в марковское (имеется в виду Николай Евгеньевич Марков, издатель «Земщины». – Р.С.) стойло? И нет сомнения, что только тогда, когда связь с прошлым будет порвана безоглядно и безвозвратно, Тиняков не встретит перед собою безжалостных фанатиков, мстительных и непрощающих, и перед ним откроются все закрытые ныне двери.
А вот из опубликованного 25 марта в газете «День» фельетона «Неустойчивость» Давида Заславского (тот еще фрукт, как окажется много позже, – автор статей, шельмовавших Мандельштама и Пастернака, в печально знаменитой статье «Сумбур вместо музыки» обличал Шостаковича в антинародности и формализме):
Были прежде такие люди, которые назывались ренегатами, но этот тип в литературе явно вымирает. Казалось, что ренегат может вызывать к себе только презрение. А теперь, пожалуй, с некоторой симпатией оглядываешься на эту категорию литературной уголовщины. Были все-таки у людей убеждения, и, стало быть, изменяли они убеждениям, и, стало быть, знали, что изменяют, и нелегко давалась им измена. А тут на смену им пришел молодой человек, который действительно ничему изменить не может, который и не изменял ничему, и, стало быть, каяться ему не в чем. И знает молодой этот человек, что, даже нарушив некоторые приличия, он может все-таки рассчитывать на снисхождение, что времена пошли теперь другие, не строгие <…>. Пусть не унывает Александр Тиняков. Талантливые люди, которым нечему изменять, не пропадут в наше время.
Принял в тиняковской истории участие и Андреев. Николай Богомолов в предисловии к публикации писем Зинаиды Гиппиус Тинякову сообщает об андреевском «Письме в редакцию» газеты «Биржевые ведомости» (1916, 23 марта). По разным причинам мне пока не удалось добраться в наших крупнейших библиотеках до этого «Письма», но отклик на него (довольно-таки едкий) я нашел в газете «Речь» (1916, 24 марта). В нем автор, избравший псевдоним Скептик, сообщает, что Леонид Андреев рекомендует «Речи» быть осторожнее с Тиняковым, ибо тот «печатал в „Земщине“ антисемитские статьи, в чем не находил впрочем особого греха». А напечатал свое обращение Андреев в «Биржевых ведомостях», где сотрудничал Борис Садовской, который, по словам Тинякова, увлекал его «на провокаторский путь». «Где же та… осторожность, в требовании которой г. Андреев проявил так много инициативы?» – вопрошает Скептик.
Вот такая пикировка между конкурирующими изданиями, в которой разоблачение Тинякова стало, судя по всему, лишь поводом.
* * *
Впрочем, для близких к Тинякову людей его антисемитские настроения не стали новостью. Из писем поэта Ивана Рукавишникова Александру Ивановичу:
18 ноября 1913-го: «…А Ваши „правые убеждения“ – это продукт чисто русский, местный. Поживите за границей годика два. Тогда вкусы переменятся, и поговорим».
15 января 1914-го: «…И что это Вы все антисемитствуете? Если всерьез, то ведь это в конце концов дискредитирует Вашу образованность. Когда хорошенькая дамочка говорит: – я люблю собачек, а кошек ненавижу, – это куда ни шло, даже может быть мило. Но эта же фраза в устах профессора зоологии нелепа. То же должно сказать и о национальном вопросе».
А вот из письма Зинаиды Гиппиус Тинякову от 30 декабря 1915-го:
…Вы меня спрашиваете, как отнесусь я к вашему, вот такому-то, прошлому. Вы даже предполагаете, что, быть может, я «не захочу вас видеть». <…>
Понимая ваш путь, ваши переходы и то, что вас толкало к Розанову, к Бор. Никольскому и т. д. – я не только не могла бы предать вас за него остракизму (Пешехонов я, что ли? Ленин?) – но и за более опасное ваше плавание в черной реке не сумела бы поставить на вас крест. Например, если бы во времена близости вашей к Розанову последний убедил, соблазнил вас написать антисемитическую статью в каком-нибудь «Русском Знамени» и поместил бы ее там хоть без имени, – что бы этот факт прибавил или убавил для меня? Ровно ничего. <…>
Вопрос еврейства так глубок сам по себе, что стыдно подходить к нему, не отмыв себя начисто от всякого «анти»-семитизма.
Тиняков же пишет Ремизову 14 января 1914 года:
«Либо мы сохраним нашу Расовую Арийскую душу,