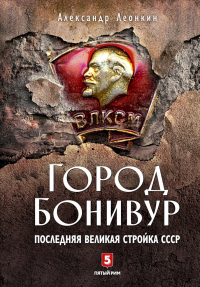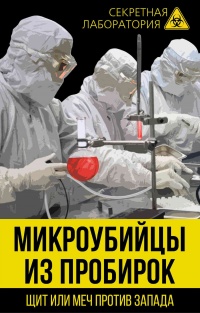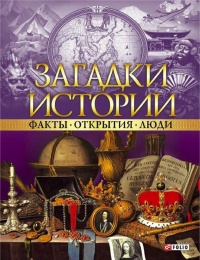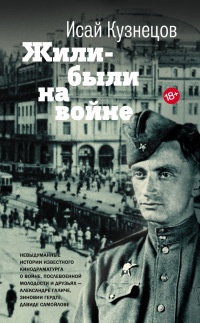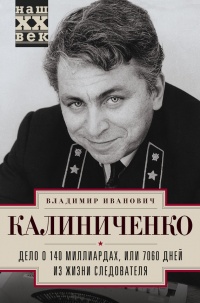На изгибах стеныВетер треплет случайные блики.Ремонтируют дом.И афиши вопят о гастролях.Мне навстречу идет старичок.Он сердит и расстроен.Плачет внук,И трясутся у дедушки руки.Обгоняя, спешитПредставитель советской науки.
Скоро шесть.Стрелок жесть. Словно жезл – восклицательный знак.Угловые домаСмотрят в блюдо настенных часов.Сам проспект как удар восклицаний.Вой сирен, град шагов, скрип рессор.Многотысячных лиц кинокадр.Это жизнь!Синих джинс пляшут старые клеши.Скоро шесть.Разговоров незримая сеть.Пыль, как сто паутин, на домах.Говорят, говорят о делах,О вещах, не имеющих смысла.О картинах, стихах и квартирах,О прошедших веках.О неоне, который не веченИ похож на огромные свечи,На растопленный воск…Всевозможные слышатся речи.Я иду через Аничков мост!
Что за странное, присущее лишь бывшей имперской столице место, кафетерий при ресторане «Москва», получивший народное название «Сайгон»! Явно в честь американо-вьетнамской войны, разразившейся в 60-е годы прошлого столетия. Открылся кафетерий осенью 1964 года и стал кульминацией кофейной революции в Ленинграде.
В городе, живущем на параллелях и перпендикулярах, на угол Невского и Владимирского проспектов вы попадете почти всегда. По делам ли стремительно рыщете или праздно гуляете в одиночестве. «Сайгон» являлся, собственно, частью ресторана «Москва», который занимал сразу три этажа углового дома. Со дня открытия «Сайгон» стал местом сборища всякой артистической публики. Хрущевская «оттепель» еще не растратила своего сладостного демократизма, хотя самого Никиту Сергеевича в октябре 64-го отправили в отставку.
«Сайгон» являлся довольно объемным и коридорообразным пространством. Одной стороной сквозь большие окна он смотрел на Владимирский проспект. Противоположная стена первоначально была расписана какими-то озорными петухами в народном стиле. Перед петухами располагалась стойка с кофеварками. В дальнем конце заведения продавали люля-кебабы. У входа же имелся бар, где наливали коньяк. При входе на стене висел телефонный аппарат, как правило, не работающий.
О феномене «Сайгона» можно долго говорить и проводить конференции. С моей же точки зрения, причина появления такого необычного места связана с отсутствием светской жизни в городе на Неве. Ее, собственно говоря, и сейчас нет. В какие общественные места можно было заявиться молодому человеку, студенту, где у него имелся бы шанс пообщаться со сверстниками или более старшими товарищами или послушать какого-нибудь интересного гостя?
Имелись, конечно, разные Дома писателей, актеров, архитекторов и журналистов. Там что-то иногда происходило за закрытыми дверями, но в недостаточном все-таки объеме.
А тут – абсолютно бесцензурная территория в центре города.
В кафетерии появилась уйма молодых поэтов, всклокоченных ниспровергателей, и художников, заново осваивающих умерщвленный, казалось, русский авангард. Явились доморощенные философы, нервные и бледные. Богема, одним словом, сходилась на главном перекрестке за чашкой кофе. Тогда еще особо не пьянствовали, хотя это можно было сделать легко – на перекрестке работало сразу два гастронома с винными отделами…
Про «Сайгон» уже написано много, снимались телепередачи. Поэтому я стану придерживаться личных воспоминаний.
Первый мой заход туда состоялся поздней осенью 1967 года. Став первокурсником, я завел в университете новых друзей. Как-то после закрытия академической столовой, где я часто проводил время, сокурсник предложил мне съездить в одно место.
– Что за место такое? – поинтересовался я.
– Сам увидишь, – ответил студент. – Там ужас что говорят!
До главного перекрестка мы добрались минут через пятнадцать. Запомнилась толкучка и бесконечная очередь, в которой нам пришлось постоять. Приятель тут же влез в беседу тех, кто стоял перед нами. Они говорили про иконы, произносили слово «онтологический». Нас, семнадцатилетних, вежливо, но настойчиво отшили.