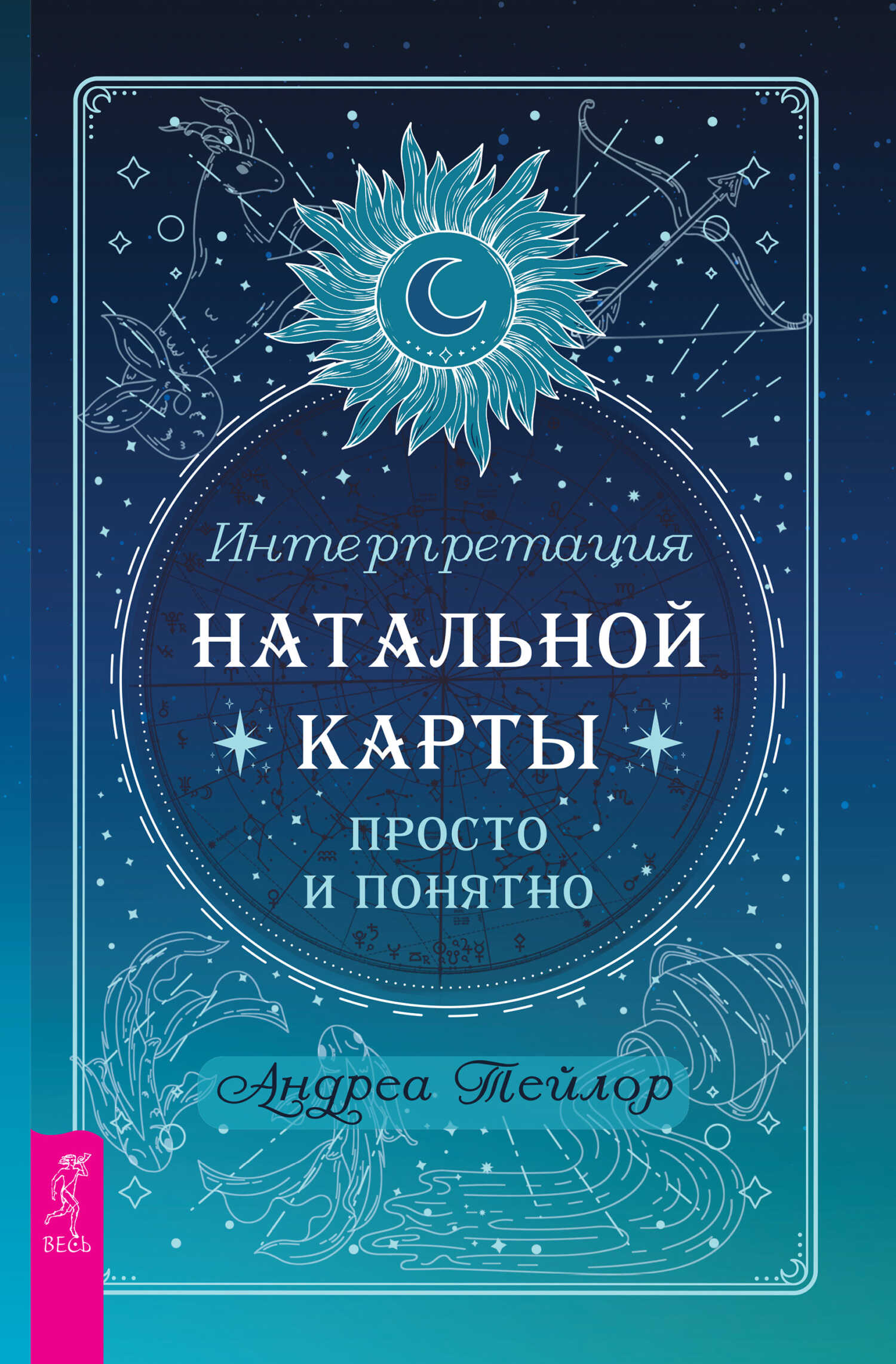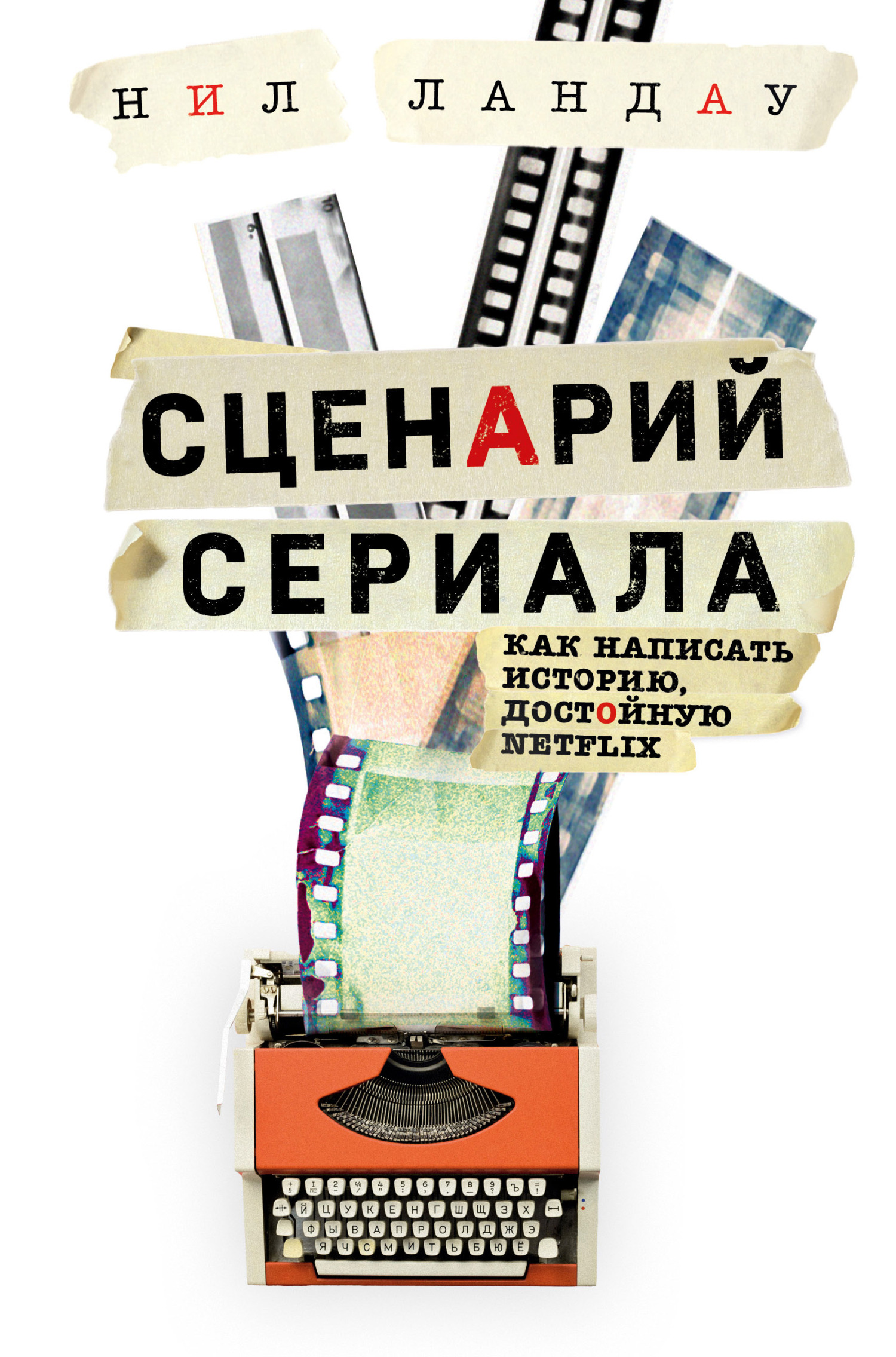class="title1">
534
Закадровый голос в «Обыкновенном фашизме» М. Ромма стал прецедентным явлением не только для советской журналистики и кинодокументалистики. Современные российские массмедиа уже достаточно давно успели превратить роммовские многозначительно ироничные интонации в назойливый пропагандистский штамп.
535
Самый очевидный в этом отношении пример — хрестоматийная «Тля», написанная в разгар антисемитской кампании рубежа 1940–1950‑х годов и опубликованная в 1964‑м, на волне нарождающегося консервативного поворота во внутренней политике СССР.
536
Вернулся Штирлиц в СССР, получил Героя Советского Союза, очередное звание, выплату за пятнадцать лет. На радостях пошел в кабак, ужрался до чертей, вышел и мордой в лужу — хху-як! Голос за кадром (исполнитель имитирует копеляновские интонации): «Он проснется… ровно… через двадцать пять минут».
537
Сидит на елке пеликан. Видит — летит по небу стая напильников. И главный напильник: «Эй, внизу! Где тут направление на север?» Пеликан: «Вон там!» (исполнитель указывает рукой в сторону воображаемого севера). Сидит дальше. Смотрит — еще одна стая напильников. «Эй, на земле! Где север?» — «Там!» (исполнитель машет рукой в ту же сторону). Сидит дальше. Смотрит, летит еще один напильник, торопится, тощий весь, замызганный, кургузый. Пеликан ему: «Эй, там, наверху! Тебе на север? Твои все вон туда полетели! (исполнитель с подчеркнутой готовностью указывает в привычном направлении). — «А мне похуй, я без ручки…»
538
О роли, которую информационный голод сыграл в формировании позднесоветской мистико-символистской традиции см. главу «Проект моста между землей и небом…».
539
«Секс» — предельно обобщенное понятие, под которое подпадала не только порнография, но — потенциально — любая информация, содержащая эротические коннотации. При этом по границам этого смыслового поля, как обычно в советской практике, существовала обширная серая зона, и в каждом конкретном случае окончательное решение о допустимости или недопустимости попадания того или иного текста, изображения или перформанса в советское публичное поле принималось с оглядкой на никак не определенное и ничем не регулируемое множество обстоятельств и «компетентных мнений». Что, конечно же, приводило к инструментализации самого понятия, позволяя в зависимости от ситуации актуализировать или не актуализировать запретительные механизмы. Двое одетых актеров, лежащих на сцене в начале второго действия театрального спектакля в провинциальном ТЮЗе, могли вызвать страшный скандал в местной прессе (с публикацией профессионально написанных статей, подписанных неприметными учителями из районных школ, с заглавиями вроде «Не могу смотреть в глаза подростку»), а затем и увольнение режиссера — если художественному руководителю театра нужно было «решить кадровый вопрос». При этом в идущих большим экраном и, соответственно, доступных несравнимо большему количеству юных зрителей фильмах вполне могла многозначительно мелькнуть в кадре обнаженная спина или даже грудь юной актрисы, играющей девочку-подростка («Чужие письма» Ильи Авербаха, 1975), а то и, действительно, самой настоящей советской школьницы («Переходный возраст» Ричарда Викторова, 1968). Причем в обоих последних случаях «флеш» был вполне продуманным режиссерским ходом, четко рассчитанным на то, чтобы произвести на зрителя эротически «заряженное» впечатление и усилить эмоциональные акценты на вполне конкретных элементах общего высказывания.
«Мистика» — понятие почти столь же размытое, хотя применительно к «мистике» практика умалчивания работала несколько иначе, с опорой на вполне конкретный modus operandi, имевший под собой длинную череду прецедентов. Если в актуальной отечественной традиции складывался консенсус о приемлемости для включения в пантеон классиков или в просто круг имен, значимых для очередной разновидности советского канона, той или иной фигуры, не стерильной по данному параметру, стерильности просто нужно было достичь, превратив все соответствующие обстоятельства в фигуру умолчания. Масоны становились просветителями (каковыми, собственно, чаще всего и являлись), ученые ренессансной формации, не проводившие границ между естественно-научной и оккультной ипостасями знания (поскольку были не в курсе, что подобная граница существует), превращались в математиков, физиков и химиков, ну а гётевский «Фауст» в школьных изданиях печатался без второй части и с комментариями, из которых следовало, что ко всяческой магии и прочему оккультизму Гёте относился сугубо критически — и высмеивал их в своем бессмертном творении.
540
Джойс Дж. Улисс / Пер. В. Хинкиса, С. Хоружего. М.: Республика, 1993.
541
Шаповал С. Русский Джойс нового тысячелетия: Интервью с Сергеем Хоружим // Русский журнал. 24 июля 2001 // http://old.russ.ru/krug/20010724_p.html.
542
В том же 1993 году (с заходом на 1994‑й) «белый» трехтомный «Улисс» вышел еще и в «ЗнаКе» тиражом 50 000 экземпляров. Если бы сам Джойс смог при жизни увидеть все триста тысяч томов русского «Улисса» и комментариев к нему, «Поминки по Финнегану» он явно написал бы на русском и только на русском. И завещал бы издать не ранее 1993 года.
543
Первая публикация: Михайлин В. Перенастройка киноглаза (Рец. на кн.: Oukaderova L. The Cinema of the Soviet Thaw: Space, Materiality, Movement. Bloomington, 2017) // Новое литературное обозрение. 2020. № 2 (162). С. 373–383.
544
См.: Голдовский Е. Проблемы панорамного и широкоэкранного кинематографа. М.: Искусство, 1958. С. 8.
545
Widdis E. Visions of a New Land: Soviet Film from the Revolution to the Second World War. New Haven, CT: Yale University Press, 2003. P. 11 (Oukaderova. P. 8–9).
546
Марголит Е. Пейзаж с героем // Марголит Е. Живые и мертвое: Заметки к истории советского кино 1920–1960‑х годов. СПб.: Мастерская «Сеанс», 2012. С. 404, 402.
547
Вся эта последовательность сцен, по сути, представляет собой достаточно жесткую пародию на советский кинематографический штамп, начало которому дала «Одна» (1931) Г. Козинцева и Л. Трауберга, где «голос Отчизны» был одним из полноправных действующих лиц и регулярно вступал в диалогические отношения с протагонисткой, отправившейся из столичного города на дикую восточную окраину страны. Героиня едва не погибает, но «голос», уверенно контролирующий ситуацию, высылает за ней специальный самолет и спасает от смерти. В «Неотправленном письме» героев также будет искать авиация, но вслепую и безуспешно. Родина в конце концов подберет тело только одного из своих сыновей, но, впрочем, вместе с телом получит необходимую ей информацию, ради которой, собственно говоря, экспедиция