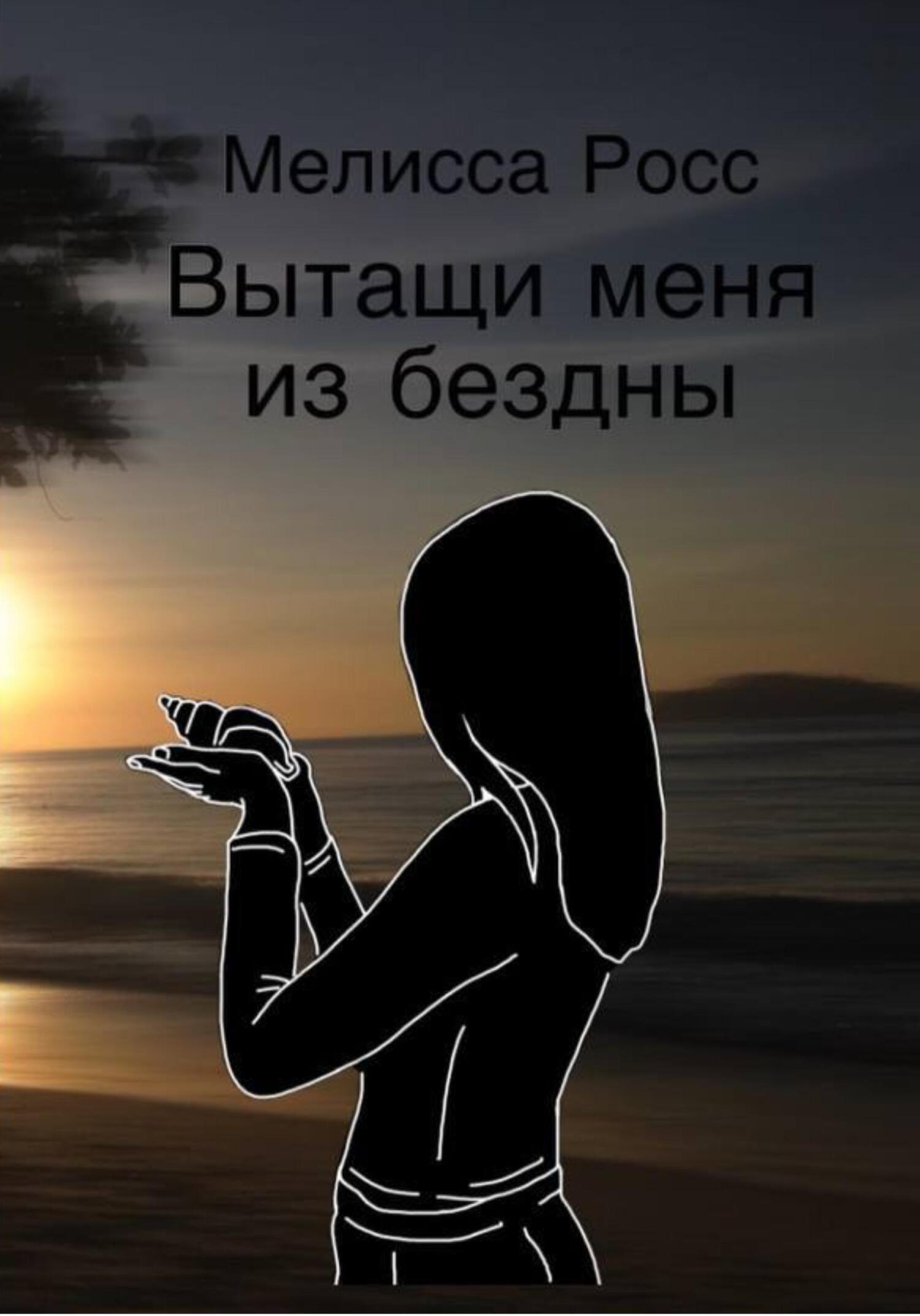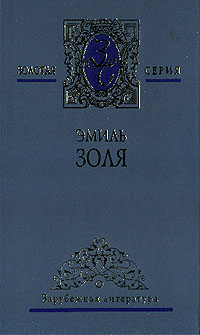вкусы их не совпадали, мама восхищалась растениями Глории Инес, а та – мамиными. Приходя к нам в гости, Глория Инес усаживалась в кресло напротив самых крупных кустов.
– Ты подрезала фикусы, – говорила она.
– Они так разрослись, – объясняла мама, – еще чуть-чуть – и нам стало бы негде жить.
А когда мы приходили к Глории Инес, она спрашивала:
– Раньше ведь ты эти ослиные хвосты не подвешивала?
Ослиные хвосты – светло-зеленые побеги, которые теперь свешивались, как виноградные гроздья, с балконного потолка.
– Бедняги просто валялись на полу, как змеи, я все боялась, что мне их растопчут.
К взаимному восхищению примешивался соревновательный дух.
В последний раз мы видели Глорию Инес у нас в гостях – в тот период, когда мама по субботам ходила на аэробику, а немой звонил и вешал трубку, если отвечал кто-то, кроме мамы.
Пока Глория Инес осматривала джунгли, ее муж и сыновья сидели на трехместном диване. Муж наверняка принялся рассуждать о погоде и новостях, папа кивнул, мама что-то сказала, мальчики зевнули, пальмы окружили их, один из них вздрогнул от неожиданного прикосновения. Глория Инес приподняла рассеченную бровь:
– Ты разговариваешь с ними? Ставишь им музыку?
– Кустам-то? – Мама хихикнула. – Нет, конечно.
Она ухаживала за растениями: протирала им листья по одному, сидела на корточках у горшков, рыхля землю и выпалывая сорняки, – но в ее заботах не было тепла. Так натирают до блеска бронзовые украшения.
– Говорят, они это очень любят, – объяснила Глория Инес. – Мои вот очень красивые.
Мама оглядела свои джунгли – буйные, изобильные, – как бы говоря: а мои что, нет?
В последний раз мы получили вести от Глории Инес в день моего первого причастия, уже после того, как все рассорились и умерла Карен Карпентер.
У меня была масса дел. Уроки катехизиса с директрисой начальной школы. Надо было выучить наизусть длиннющий Символ веры, молитвы, песни и что отвечать во время мессы. Сходить с папой, потому что мама по-прежнему страдала ринитом, на примерку платья. Не забыть попросить его ходить со мной к мессе по воскресеньям. Всегда вести себя хорошо.
За два дня до церемонии я пошла на исповедь в школьную часовню. От двери тянулся длинный проход, а в глубине, на фоне тяжелых красных драпировок, висел Христос. Худой, израненный, с гвоздями, терновым венцом и поникшей головой. Жуткое зрелище. На полу – надгробная плита основательницы школы. В часовне все пугало, а больше всего – тишина.
Я преклонила колени перед исповедальней и перечислила падре, бестелесной тени за решеткой, свои грехи. Что раньше я почти никогда не ходила к мессе. Что даже теперь хожу не каждое воскресенье. Что видела голых женщин в журнале «Плейбой». Что у меня бывали дурные мысли.
– Какие мысли?
– Что муж моей тети теперь плохо пахнет и живет на улице. Что мой папа на самом деле плохой человек. Что у моей мамы нет никакого ринита, она просто ленится. Что мои родители разойдутся…
– Еще что-нибудь?
– Что мама убьет себя. Но я больше так почти не думаю, потому что папа мне сказал, что это неправда.
– Это все?
– Да.
Он назначил мне покаяние – прочитать один раз «Отче наш» и один раз «Аве Мария». Я встала и, уходя, услышала, как он ворочается в исповедальне, ожидая следующую девочку.
Накануне вечером, пока мама ела тосты с кофе, я ей рассказала – и это была правда, – что падре велел передать: очень важно, чтобы с нами на церемонии были все члены семьи. Мы сидели по-турецки у нее на кровати, перед ней был поднос с тостами.
– Я приду, Клаудия.
С утра она встала раньше нас, приняла душ и в первый раз с того дня, как поругалась с папой, оделась на выход и накрасилась. Черное платье, коричневая помада, конский хвост. Она не выглядела веселой, но зато почти что казалось, что и нет у нее никакого ринита.
Папа надел пиджак и галстук. Я – белое платье с пышными рукавами и лентами по подолу. Мама собрала мне волосы в пучок и закрепила фату. Впервые с того дня, как у нее начался ринит, она сделала для меня что-то подобное. А потом она дала мне синюю бархатную шкатулочку. Я открыла ее. Внутри была золотая цепочка с подвеской-ангелочком.
– Твоя бабушка подарила мне ее на первое причастие. А теперь она твоя.
Мама надела ее мне на шею, и мы обнялись.
Вся церковь была в белых цветах, боковые двери были открыты, сквозь проемы виднелся школьный сад и проникал утренний свет. Страшно больше не было. Мы с другими девочками встали в два ряда, каждая держала в руке толстую свечу. Директриса прошла вдоль рядов и зажгла свечи. Пока мы шли к алтарю и пели «Как потихоньку ехали повозки и на холмы взбирались чередой», я заметила на одной из скамеек в задней части церкви тетю Амелию в блестящей блузке. Губы у нее были накрашены красной помадой. Увидев меня, она улыбнулась.
Мама с папой сидели далеко от нее, в одном из передних рядов, плечом к плечу, хоть и смотрели в разные стороны. Мама – на алтарь, а папа – на нас, со всегдашней своей улыбкой. Мы все были одеты одинаково, и вряд ли он видел, которая из девочек я.
Я старалась сосредоточиться, но месса была чересчур долгая, и не отвлекаться не получалось. Падре, молодой и красивый, в обычное время любил нас смешить, но в тот день был такой серьезный и скучный, что смеяться совсем не хотелось.
Момент настал. Мы стали по очереди подниматься и подходить к алтарю. Я подумала, что сейчас, проглотив облатку и вино, плоть и кровь Христовы, почувствую мощные изменения. Что, освободившись от грехов, ведомая Христом, стану совсем легкой и воспарю. Я собралась с мыслями. Меня ждало разочарование. Единственное, что я ощутила, – как облатка прилипла к нёбу. Всю дорогу к своему месту я пыталась отлепить ее языком, но перед одноклассницами, перед Марией дель Кармен, в глазах у которой стояли слезы, я сделала вид, что это было потрясающе.
После окончания церемонии мы вышли в сад, где уже ждали наши семьи. Мои родители единственные из всех не стали фотографироваться. Мама наклонилась ко мне, поздравила и поцеловала, а потом поднялась и пошла к дому. Подошли папа с тетей, которые ждали чуть поодаль. Мы пообедали в ресторане, а потом меня отвезли в клуб на праздник, который устроила семья Марии дель Кармен. Там я забыла о ссорах, о Гонсало, о маме с ее ринитом и