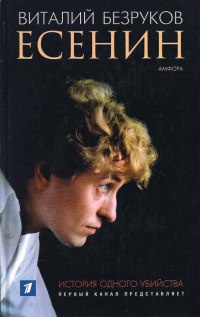В этом мире я только прохожий,Ты махни мне веселой рукой.У осеннего месяца тожеСвет ласкающий, тихий такой.
В первый раз я от месяца греюсь,В первый раз от прохлады согрет,И опять и живу и надеюсьНа любовь, которой уж нет.
«Снежная замять дробится и колется. Сверху озябшая светит луна…», «Вечером синим, вечером лунным был я когда-то красивым и юным…», «Сочинитель бедный, это ты ли сочиняешь песни о луне?», «Синий туман. Снеговое раздолье. Тонкий лимонный лунный свет…», «Мелколесье. Степь и дали. Свет луны во все концы…» – и так через всю лирику последних месяцев. Луна, когда-то поруганная и оскорбленная в «Исповеди хулигана», распростерла над поэтом свое световое покрывало, и этот свет уже не кажется ему чужим и враждебным. Кончилась пора солнечных дней, душа, кажется, вылюблена до дна, и любимый синий свет теперь видится в лунном сиянии… Солнечный Пушкин пропадает в туманной дымке, и выходит из нее, обретая зримые очертания, любимый с раннего детства Лермонтов, что «как поэт и офицер был пулей друга успокоен». Тянет перечитать «Тамару», «Сон», «Дубовый листок…» и любимое – «Выхожу один я на дорогу…» – «Я б хотел забыться и заснуть. Но не тем, холодным сном могилы…». А перед сном – обязательно помолиться, как молился этот гусар-мальчишка – вечная тайна русской поэзии. «Я, матерь Божия, ныне с молитвою пред твоим образом ярким сиянием не о спасении, но перед битвою, не с благодарностью иль с покаянием…» И напеть на собственный мотив: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть. На свете мало, говорят, мне остается жить…» Эту песню он повторил почти буквально в последних стихах – лермонтовская нота властно вторгается и заставляет настраивать по ней свою лиру: «Не шуми, осина, не пыли, дорога, пусть несется песня к милой до порога. Пусть она услышит, пусть она поплачет. Ей чужая юность ничего не значит…»
В этом безжизненном лунном сиянии только изредка доносятся звон колокольчика или звуки тальянки, как напоминание о жизни, о человеческом присутствии среди тишины заснеженного пространства: «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело! Вспомнить, что ли, юность, ту, что пролетела?..», «По равнине голой катится бубенчик…»
«Не могу остановиться», – сказал он Наседкину, прочитав ему последние стихи. Их настроение показалось Наседкину странным. «С чего это ты запел о смерти?» – спросил он, словно почуяв что-то неладное. Есенин, как будто готовый к этому вопросу, начал с жаром доказывать, что, только думая о смерти, поэт может особенно остро ощущать жизнь.
Он действительно переживал в это время какое-то новое свое рождение. Думы о смерти не убавляли интереса к жизни и жажды ее, но, наоборот, лишь пробуждали. Только исчезло прежнее надрывное «Я хочу жить, жить, жить! Жить до страха и боли…» – вместо этого пробудилось чувство полной уравновешенности всего сущего. Это чувство появилось в его стихах год назад, но с какой-то новой силой зазвучало лишь осенью – зимой 1925 года.
Свищет ветер, серебряный ветер,В шелковом шелесте снежного шума.В первый раз я в себе заметил —Так я еще никогда не думал.
Пусть на окошках гнилая сырость,Я не жалею, и я не печален.Мне все равно эта жизнь полюбилась,Так полюбилась, как будто вначале.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
О, мое счастье и все удачи!Счастье людское землей любимо.Тот, кто хоть раз на земле заплачет, —Значит, удача промчалась мимо.
Жить нужно легче, жить нужно проще,Все принимая, что есть на свете.Вот почему, обалдев, над рощейСвищет ветер, серебряный ветер.
Но как только проходило вдохновение и приходилось возвращаться к обыденной жизни, поэт поистине места себе не находил.