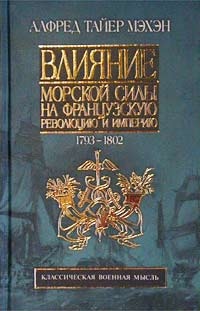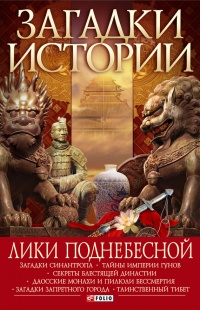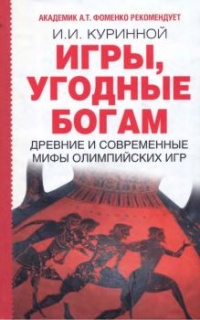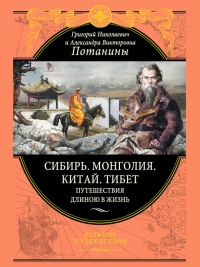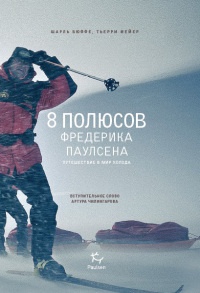Пройдет стар человек — перекрестится, Пройдет молодец — приосанится, Пройдет девица — пригорюнится, А пройдут гусляры — споют песенку…
В этих четырех строках заключен глубокий смысл лермонтовской поэмы: народные певцы под звон гуслей передают из поколения в поколение песню об удалом купце — человеке из народа, который не побоялся царского гнева и, убив царева опричника, смыл с себя позор и бесчестие.
Написанная в год смерти Пушкина, эта поэма невольно должна была наводить читателей на широкие сопоставления судьбы Степана Калашникова с гибелью величайшего русского поэта.
«Песня про царя Ивана Васильевича…» принадлежит к лучшим произведениям русской и мировой поэзии. Лермонтов показал в ней величие русского национального характера и воссоздал дух и стиль народной поэзии, как мог это сделать только подлинно народный поэт.
Лермонтов, можно сказать, был воспитан на песнях народных. В Тарханах и в казачьих станицах на Тереке с детских лет слышал он песни — протяжные и плясовые, колыбельные и хороводные, любовные и величальные, ямщицкие, солдатские, «разбойничьи». Знал исторические песни. Еще подростком, в пансионе, он записал как-то в свою тетрадку: «Если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях». Он так глубоко постиг дух народного творчества, что современные исследователи справедливо сравнивают «Песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» с творениями народных певцов и сказителей. Недаром Белинский писал потом, что Лермонтов «вошел в царство народности как ее полный властелин, и, проникнувшись ее духом, слившись с нею, он показал только свое родство с нею, а не тождество… показал этим только богатство элементов своей поэзии, кровное родство своего духа с духом народности своего отечества»[1037].
Только один Пушкин умел создавать творения, столь близкие по духу песням и сказкам народным.
Написана была эта поэма, по словам Лермонтова, в три дня, когда по болезни он не мог выходить из дому. Напечатать ее было много труднее. Это удалось только после заступничества влиятельного в придворных сферах В. А. Жуковского. Но даже при этом цензура не разрешила выставить имени автора: над ним все еще тяготела опала.
Величайшую прозорливость проявил, прочитав поэму, Белинский. «Не знаем имени автора этой песни… — написал он, — но если это первый опыт молодого поэта, то не боимся попасть в лживые предсказатели, сказавши, что наша литература приобретает сильное и самобытное дарование»[1038].
Белинский безошибочно угадал гений Лермонтова и с тех пор с восторгом встречал каждое его произведение.
Вскоре после своего возвращения в столицу Лермонтов начал сотрудничать в журнале «Отечественные записки», которые с января 1839 года стали выходить под редакцией Андрея Краевского.
«„Отечественные записки“ теперь единственный журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и — смею думать — умное мнение», — писал Белинский о новом составе сотрудников журнала, талантливых, прогрессивных, молодых литераторах того времени[1039]. К участию в журнале Краевский привлек Лермонтова, Герцена, Огарева, Кольцова, Владимира Одоевского, Ивана Панаева. Но, конечно, более всего определяло «честное, благородное и умное» направление журнала участие в нем самого Белинского. Краевский уговорил его переехать из Москвы в Петербург и принять на себя ведение критического отдела.