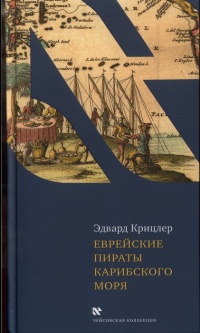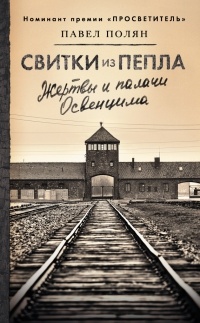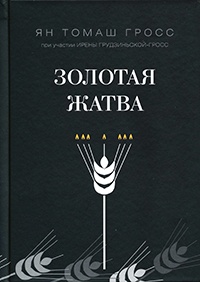Песня на идиш, которую пела мамаВ визге тормозов на этот раз присутствует какая-то завершенность, так что мы инстинктивно понимаем: наша поездка закончена. За раздвинувшимися дверями вагона безрадостная серая дымка. Но мы щуримся: привыкшим к полутьме глазам даже такой свет кажется ярким. На платформе табличка: АУШВИЦ (Освенцим).
Поступает команда: «Освободить вагон!» Очнувшись от оцепенения, мы принимаемся собирать пожитки.
«Пошевеливайтесь!» Люди в полосатой одежде тычут в нас палками и едва слышно добавляют: «Выходите быстрее. Мы не хотим делать вам больно». Это узники, под прицелом немецких винтовок их заставляют сгонять нас с поезда палками. И мы, чуть живые, спрыгиваем со своим багажом, если это можно назвать «багажом».
До земли метра полтора. Прыжок отдается в коленных суставах, затекших от долгой неподвижности, резкой болью. Я поворачиваюсь, чтобы помочь женщине с ребенком, и получаю по плечу палкой.
– Поживее!
Я пытаюсь взглянуть в глаза тому, кто это говорит, но глаз там не видно: только какие-то пустые темные впадины.
– Строиться! – Резкие приказы перемежаются щелчками плетки по сияющим кожаным сапогам.
– Вещи кидать сюда! – кричат эсэсовцы.
Поставив свой чемодан прямо и аккуратно рядом с растущей грудой вещей, я поворачиваюсь и спрашиваю одного из охранников: «Как мы потом их найдем?» Я исхожу из того, что я человек и имею право знать.
– Заткнись и стройся! – орет он мне в лицо, поднимая ружье. От этого окрика по телу пробегают мурашки. Для него я не человек.
Я чувствую запах, который не могу определить. Это не запах человеческих испражнений и немытых тел, хотя таких ароматов тоже достаточно. Это запах страха, и им пропитан весь воздух вокруг меня.
Страх застыл в глазах окружающих меня женщин, запах страха исходит от нашей одежды, нашего пота.
Младенец умер, но его мать не замечает, что в ее руках обмякшее тельце. Она вцепилась в труп мертвой хваткой. Я вижу это, меня бросает в дрожь. Вокруг все время что-то происходит, разные события сменяют друг друга с такой быстротой, что невозможно понять, что к чему. Я озираюсь в поисках хоть какой-то ясности, пытаюсь найти хоть кого-нибудь, кто объяснит, зачем мы здесь и что с нами будет. И я вижу такого человека.
Он стоит перед нами, начальственный и неземной, он заведует здесь всем, он отдает приказы, куда идти и что делать. Он аккуратен и изящен в своей серой форме, он великолепен. Я улыбаюсь ему, глядя в его синие глаза и надеясь, что он все поймет, увидит меня такой, какая я на самом деле.
– Не хотите отдать ребенка? – спрашивает он у женщины с мертвым младенцем.
– Нет. – Она неистово трясет головой.
– Встаньте там, – говорит он.
«Как это хорошо с его стороны – не указывать ей, что ребенок мертв, – думаю я. – Как это правильно – поставить ее отдельно».
А вокруг творится какое-то безумие. У меня голова идет кругом. Изо всех сил стараясь сосредоточиться хоть на чем-нибудь, чтобы не разрыдаться, не потерять самообладания, я неотрывно смотрю на мужчину в сером. Он настолько великолепен, что я почти не сомневаюсь в его человечности. Ему подчиняются беспрекословно. Все эсэсовцы вокруг незамедлительно выполняют его приказы, отвечая: «Хайль Гитлер!»
Я зачарованно наблюдаю за происходящим, пока меня не накрывает какой-то дымкой, в которой уже нет места осмыслению. Это не сон наяву, скорее какой-то продолжительный шок. В поле зрения пятно на левом сапожке. Плюнув в ладонь, наклоняюсь, чтобы оттереть его. Сапожок снова белый.