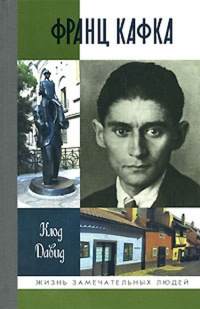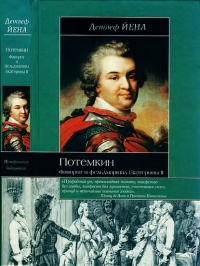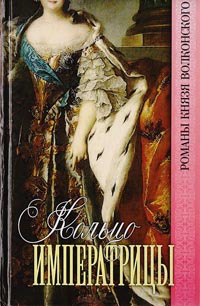3. Беньямин – Шолему
Сейчас вот пробую силы, испытываю себя, рецензирую том наследия Кафки: трудно неимоверно. По этому случаю прочел почти все им написанное – отчасти по второму разу, но кое-что и впервые. Завидую тебе из-за твоих иерусалимских мудрецов; мне кажется, это был бы подходящий повод их расспросить. Может, подбросишь мне издалека какой-нибудь намек на идею. У тебя и у самого ведь наверняка уже есть по поводу Кафки свои особые мысли.
4. Шолем – Беньямину
Иерусалим, 01.08.1931Я предполагаю, ты посвятишь первый том своих критических наблюдений[149] памяти Гундольфа[150]. Как бы там ни было, но свою работу о Кафке ты должен написать так, чтобы ей обязательно нашлось место в твоей книге, ибо с моральной точки зрения просто невозможно помыслить, что ты издашь книгу критических работ, которая не включала бы в круг своей тематики Кафку. А по поводу «намека на идею», которого ты от меня требуешь, могу только сказать, что тома из наследия у меня пока нету и я знаю оттуда лишь две вещи – высочайшего совершенства. Но «особые мысли» насчет Кафки у меня, конечно же, есть, правда, не по поводу его места в континууме немецкой словесности (где у него никакого места нет, в чем, кстати, он сам нисколько не сомневался; он ведь, как ты, конечно же, знаешь, был сионистом), а только в словесности еврейской. Я бы тебе в этой связи посоветовал любое исследование о Кафке выводить из книги Иова или по меньшей мере из рассуждения о возможности существования божественного приговора, который, на мой взгляд, и является единственным предметом творчества Кафки, как темы художественного произведения. С этих же точек зрения, по моему мнению, надо описывать и языковой мир Кафки, который в смысле его родства с языком Страшного суда можно считать каноническим, если иметь в виду прозу. Мысли, которые я много лет назад высказал в своих, известных тебе, тезисах о справедливости, в приложении к языку стали бы главной путеводной нитью моих рассуждений о Кафке. Как можно, будучи критиком, что-то говорить о мире этого человека, не поставив в центр проблематику учения, именуемого у Кафки законом, для меня было бы загадкой. Так должна бы, наверно, если она вообще возможна (вот она – заносчивость гипотезы!!!), выглядеть моральная рефлексия галахиста, который попытался бы создать языковую парафразу божественного приговора. Здесь нам вдруг явлен в языке мир, в котором нет и не может быть избавления – пойди и растолкуй всё это гоям! Полагаю, в этом пункте критика твоя будет ничуть не менее эзотерична, чем ее предмет: никогда и нигде свет откровения не горел столь же беспощадно. Это и есть теологическая тайна совершенной прозы. Ведь потрясающая фраза о том, что Страшный суд – это скорее сословное право, если не ошибаюсь, тоже именно Кафке принадлежит.
5. Беньямин – Шолему
без адреса, 3.10.1931Мне так сродни все, что ты пишешь о Кафке. Мысли, тесно соотносящиеся с твоими, тоже не раз навещали меня с тех пор, как я вот уже несколько недель во все это вникаю. Я попытался свести их в некое предварительное резюме, однако потом отложил все это дело, ибо в данное время нет у меня на него надлежащих сил[151]. Мне тем временем стало ясно, что решающий импульс мне, вероятно, сообщит первая и плохая книга о Кафке, которую сейчас пробивает некто Иоганнес Шёпс[152] из кружка Брода. Такая книга, безусловно, помогла бы мне многое для себя прояснить – чем она хуже, тем для меня лучше. Поразило меня в ходе нескольких разговоров, на вышеупомянутые недели пришедшихся, в высшей степени положительное отношение Брехта к творчеству Кафки. Он, похоже, томик из наследия проглотил буквально залпом, в отличие от меня, которому там отдельные вещи до сих пор оказывают сопротивление, – настолько велика была почти физическая мука их чтения.