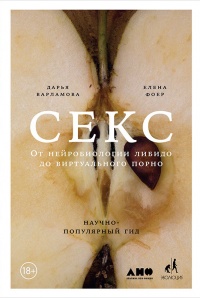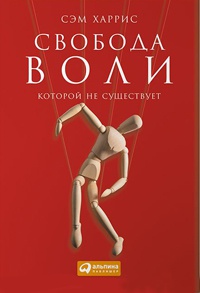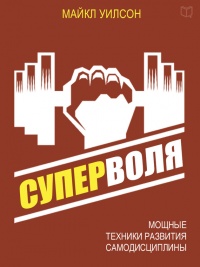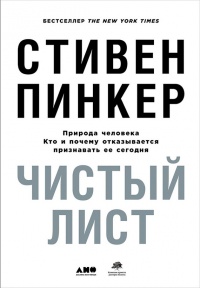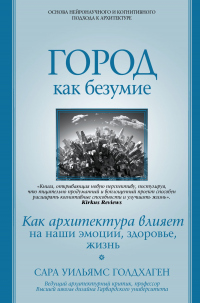Все превращалось в абсолютный теоретический кошмар! Хуже того, мы спорили о самом термине “сознание”, хотя даже не понимали, что он на самом деле означает. Никто даже не пытался разобраться. Годы спустя я решил попробовать. Вот что я нашел в международном психологическом словаре 1989 года. Определение, написанное психологом Стюартом Сазерлендом, занятно, если не поучительно.
СОЗНАНИЕ. Обладание ощущениями, мыслями и чувствами: осознание. Понятие невозможно определить, кроме как в терминах, которые лишены смысла без представления о значении сознания. Сознание есть интереснейшее, но неуловимое явление — невозможно точно определить, что оно такое, что делает или зачем возникло. Ничего, стоящего прочтения, о нем написано не было18.
Увидеть последнюю фразу было большим облегчением: когда я последний раз проводил поиск в Medline[14], там насчитывалось более восемнадцати тысяч статей о сознании, а Сазерленд только что сказал мне не утруждаться их чтением. Разбираться с темой, которую даже профессионалы обсуждают взволнованно, — это словно идти по тонкому льду. Однако каждый думает, что понимает ее или имеет о ней какое-то мнение — вроде как объяснять своим детям, что такое секс. Хорошо физикам — прохожие, по крайней мере, не ведут себя так, будто разобрались в теории струн. Проблема с сознанием в том, что оно окутано тайной. Мы почему-то хотим обращаться с ним иначе, чем, скажем, с памятью или интуицией, хотя это тоже достаточно расплывчатые понятия. Мы пока не видели физических проявлений ни одного из них в мозге и тем не менее постепенно приближаемся к разрешению загадки. Поэтому я не вижу никаких проблем в том, чтобы заниматься сознанием, не имея его точного определения. Нейробиологи в этом не одиноки. Исследователи из Института Санта-Фе на днях сказали мне, что современное представление о гене имеет мало общего с исходной концепцией.
Итак, в 1970-х годах мы придерживались идеи, что пациент с расщепленным мозгом оказывается обладателем двух сознающих систем. Однако сэр Джон Экклс и Дональд Маккей с этим не соглашались. В 1979 году Экклс в своих гиффордских лекциях утверждал, что правое полушарие обладает самосознанием в ограниченной степени, недостаточной, чтобы даровать человеку индивидуальность, свойственную левому полушарию. Дональда Маккея наша гипотеза тоже не удовлетворяла, так что в своей гиффордской лекции он заметил: “Однако я бы сказал, что идея, будто вы можете создать две личности, просто разделив организующую систему в области мозолистого тела, которое соединяет полушария мозга, не подкреплена пока никакими доказательствами. Она также в каком-то очень важном смысле неправдоподобна”19.
Что ж, наука продвигается вперед, и мы оставили идею о раздвоении психической системы далеко позади (хотя она все еще занимает важное место в популярной прессе, что раздражает). Благодаря обследованию новых пациентов, различным методикам исследования, более продвинутому оборудованию и сканерам мозга, огромному количеству данных, преимуществам нашей собственной гибкости мышления и растущему числу толковых людей, задающих вопросы и придумывающих эксперименты, мы пришли к представлению о множестве систем — как распределенных между полушариями, так и работающих в пределах одного из них. Мы больше не считаем мозг организованным из двух систем сознания, но воспринимаем его как множественную динамичную психическую систему.
Теория раздвоенного мозга гибнет
Теория начала разваливаться, когда мы приступили к исследованию когнитивных способностей правого полушария и осознали, что две половины мозга неравнозначны. Мы поняли, что левое полушарие — это такой вундеркинд, способный говорить и понимать речь, тогда как правое не говорит и очень ограниченно понимает речь. Итак, мы начали давать простые, уровня первого класса, понятийные задания правому полушарию, используя картинки и простые слова, которые оно сумело бы понять. Например, когда мы предъявили ему слово “кастрюля”, левая рука смогла указать на нарисованную кастрюлю. Затем мы высветили слово “вода”, и левая рука показала на картинку с водой. Пока все шло неплохо: правое полушарие читало слова и соотносило их с рисунками. Однако, когда мы показали два слова вместе, оно не смогло связать их в единый образ наполненной водой кастрюли — и левая рука указала на изображение пустой. Это же задание с кастрюлей и водой левое полушарие выполнило верно. Получается, правое полушарие плохо умеет делать выводы. Мы пробовали представить для него задачу только с помощью картинок: посылали изображение спички, затем дров, а потом предлагали выбрать одну из шести картинок, которая отражала бы причинно-следственную связь. Оно не могло выбрать изображение горящих дров. И даже когда мы использовали зрительно-пространственные стимулы, например показывали фигуру в виде буквы U и спрашивали, какая последовательность форм превратит ее в квадрат, правое полушарие было удручено такой задачей. Левое же ее с легкостью решало. Это различие сохранялось, даже когда некоторые наши пациенты фактически начали говорить с помощью правого полушария и наработали довольно обширный словарный запас, — правая половина мозга по-прежнему была не в силах устанавливать логические связи.