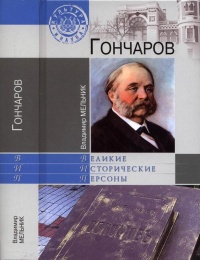Огромным циркулем обводит Свой круг зима. Грядет зима. Я вновь приговорен к свободе, Чтоб самому просить ярма.
И оправданье хуже каторг. Его ношу я, как паршу. Судьба, ты — кат и провокатор, Я вновь кассации прошу.
Но это — только полуправда. Защита против самого себя. Полная правда слишком непереносима. Ее не выговоришь. Юра не был «вновь приговорен к свободе», он ее выбрал для себя раньше. Навсегда… И уйти от этого было уже некуда. Нелегко жить с паршой на теле, а на душе — тем паче. Он испил чашу до дна.
Теперь я уже понимаю, что я — человек конченый. не свой, не советский, мне нет места среди нормально, здраво и правильно рассуждающих советских людей. Я уже в их мир не вернусь… И все же чувствуется, что дело мое как-то топчется на месте, продвигается плохо. Каждый новый допрос — новая тема, а прошлая куда-то отметается. Явно не хватает основного звена, за которое можно ухватиться и успешно привести дело к концу. Так проходит еще около месяца, и вот наконец такое звено найдено. Довольно болтовни о «добровольно-принудительных» займах и прочей ерунде. Все это было подготовкой, рыхлением почвы, так сказать. Теперь дело принимает грозные очертания, тут уже пахнет настоящей контрреволюцией!
С выражением отвращения, смешанным с презрением, исказившем ее хорошенькое личико, Бак спросила, глядя на меня в упор:
— С кем и когда вы вели террористические разговоры?
— Я…террористические разговоры??!
Боже мой, чем еще она меня ошеломит?
— Федорова, я повторяю, с кем и когда вы вели террористические разговоры?
— Ни с кем и никогда не вела!
— Врете!
Но я уже привыкла, и теперь на меня такая «пощечина» не действует.
— Я не вру. Ни с кем и никогда.
Но это опять как с княжной Щербатовой. Это я, дура, не понимаю, о чем меня спрашивают, но следовательница-то знает.
— Да какие террористические разговоры? — недоумеваю я.
— Может быть, вы и это станете отрицать? — порывшись в какой-то папке, она достает исписанную бумажку.
Я сразу вижу — почерк мой. Читает: «Не правда ли, дико — метод террора в наши дни?.. — это из вашего собственного письма к некоему Викторовскому». Да, действительно это из моего собственного письма к некоему Викторовскому, моему ленинградскому приятелю. Письмо, написанное год назад, почему-то оставшееся неотосланным и, очевидно, среди других бумаг забранное теперь из дома, но я все равно ничего не понимаю:
— Да, конечно, это мое письмо, — слов с моего места не видно, но почерк свой я узнаю и вполне допускаю, что там написано именно то, что читает следовательница. — Ну и что же такого в этой фразе? Что я удивляюсь методу террора? Ведь это же не значит, что я его «одобряю»! Тут же этого не написано?!
— Еще бы, — не очень-то логично отвечает Бак. — Было бы странно, если бы вы сознались, что одобряете этот метод!
— Почему же я должна сознаваться, если я не одобряла и не одобряю его?
Бак не отвечает, но многозначительно задает другой вопрос:
— А вы об убийстве Кирова никогда ни с кем не говорили?
Я молчу в недоумении…
— Ну что же, Федорова, после убийства товарища Кирова вы никогда ни с кем об этом не говорили?
— Да, конечно же, говорила. Тогда же все об этом говорили и в газетах писали.
…Так вот какие разговоры называются «террористическими»! Я еще не понимаю, куда она гнет, но уже чувствую, что ни к чему хорошему это не приведет. В протокол между тем записывается: «Я вела террористические разговоры во время убийства т. Кирова».
— Так с кем же вы вели эти разговоры?
Я теряюсь:
— Право, не помню… Со всеми, наверное, кто был рядом.
— А кто был с вами рядом?
Я чувствую, что запутываюсь в какие-то ловко расставленные сети. Ведь во время убийства Кирова в декабре 1934-го я как раз была в Ленинграде. (Как это некстати! — молнией проскакивает в мозгу. Не дома, в Москве, а именно в Ленинграде. Хотя я ездила туда часто, мне почему-то стало неприятно и неудобно, что в это время я как раз была в Ленинграде.)