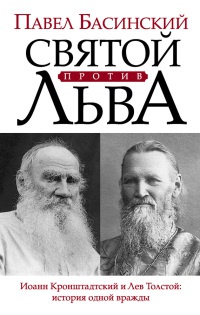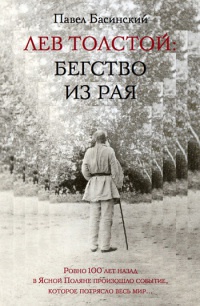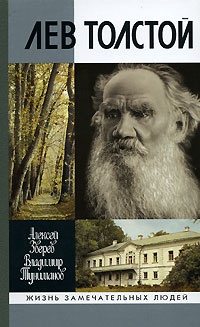Л. Л. Толстой. Дневник 1890 года
Лёля «умер»
17 июля 1889 года Толстой из Ясной Поляны посылает своему «духовному другу» Черткову письмо, в котором с неожиданной стороны отзывается о сыне Лёве, в это время закончившем гимназию и собиравшемся поступать на медицинский факультет московского университета. Но прежде чем его процитировать, рассмотрим обстоятельства, которыми оно было вызвано.
К концу восьмидесятых годов Чертков становится главным человеком в жизни Толстого, по своему влиянию на него далеко превосходящим всех, кто его окружает в это время. Любовь Льва Николаевича к Черткову может сравниться только с любовью к дочери Марии, которая, как и Чертков, безраздельно предана отцу. Пожалуй, любовь к Маше даже глубже или, во всяком случае, интимнее любви к Черткову. Но главным человеком при Толстом является Чертков.
Все запрещенные к печати в России религиозно-философские произведения Толстого проходят через его руки. Он руководит делами толстовского народного издательства «Посредник». Он, как пишет биограф Черткова Михаил Васильевич Муратов, «с постоянной настойчивостью собирает черновики и письма Толстого, старается иметь, если не в подлиннике, то хотя бы в копии, каждую написанную им строчку. С педантической тщательностью Чертков разбирает полученные от Толстого рукописи, переписывает их сам или проверяет правильность их переписки, если это делают другие, и следит за тем, чтобы они хранились в полном порядке…»
Вместе с женой Галей (так называли Анну Константиновну Черткову, в девичестве Дитерихс) Чертков живет на хуторе Ржевск Воронежской губернии, который ему отделила богатая и знатная мать, кстати, очень недовольная увлечением сына Толстым. Вдруг в июле 1889 года у Чертковых умирает годовалая дочь Оленька.
«Его маленькая дочка Оля – Люся, как ее назвали в семье, – была своеобразной, живой и ласковой девочкой, и записки об ее жизни, которые написала мать, показывают, как крепко привязались к ней не только родители и бабушка, но и все обитатели Ржевска, среди которых она росла», – пишет Муратов.
«Мы с нею лишились больше, чем своего любимого ребенка, – сообщает Толстому Чертков, – мы лишились маленького связующего звена и смягчающей силы между всеми нами».
Ответ на это Толстого – удивительный!
«Сейчас получил вашу телеграмму, дорогие друзья, и хочу и не могу не страдать за вас, особенно за вас, милая, дорогая Галя.
Нынче только думал о том, как переносить то, что называется и что отражается в наших душах горем. У меня было огорченье, духовное, но вам не нужно говорить, что духовное горе событие, не менее, но более событие, чем матерьяльное. – Ну что больше событие: что у меня сгорел дом, умер любимый человек, или я узнал, что любимый мною человек был обманщиком и не был тем, за что я любил его?
Такого рода событие было со мною – чтоб вас не интриговало что? – скажу: это было тяжелое столкновение с сыном Лёвой, показавшее мне его похожим на Сергея, или по крайней мере показавшее, что отношения с ним могут быть такие же, как с Сергеем. Это было мое горе. И я много думал о нем и о горе вообще».
Как это понимать? Только так: у вас умерла дочь, а я разочаровался в сыне. Мое горе сильнее вашего. Если бы сын только умер, не было бы так горько.
Нигде с такой беспощадной ясностью не проявился духовный ригоризм Толстого, как в отношении к смерти детей. Его позиция в этом вопросе была настолько своеобразной, что вызывала в других людях естественное чувство сопротивления.
Так, за год до смерти дочери Чертковых Оли Василий Иванович Алексеев, бывший «народоволец», домашний учитель в семье Толстых (у него учился и Лёля), затем «крестьянствующий» интеллигент, тоже лишился дочери. Ей было четыре года. Своим горем он поделился с Толстым и в ответ получил такое письмо:
«Дорогой друг, Василий Иванович. Мне очень больно за вас, но милый друг, не сердитесь на меня, не о том болею, что вы потеряли дочь, а о том, что ваша любовная душа сошлась вся на такой маленькой, незаконной по своей исключительности, любви. Любить Бога и ближнего, не любя никого определенно и всей силою души, есть обман, но еще больший обман – любить одно существо более чем Бога и ближнего… Любишь их и детей в том числе, потому что они работники того дела, которое составляет мою жизнь и работники лучшие, чем я, испорченный соблазнами и загрязненный жизнью. Вот так отчасти и вы любили Надю, но почему она у вас одна? Если бы вы любили всех тех близких вам за то, что они будущие лучшие работники дела Божия, вы бы не чувствовали так. Я вас очень люблю, Василий Иванович, люблю за вашу доброту, благодарен вам за то, что вы помогли мне в освобождении от тех соблазнов, которые связывали меня. Но последнее время мне кажется, что вы запустили свою душу и она стала зарастать терниями».