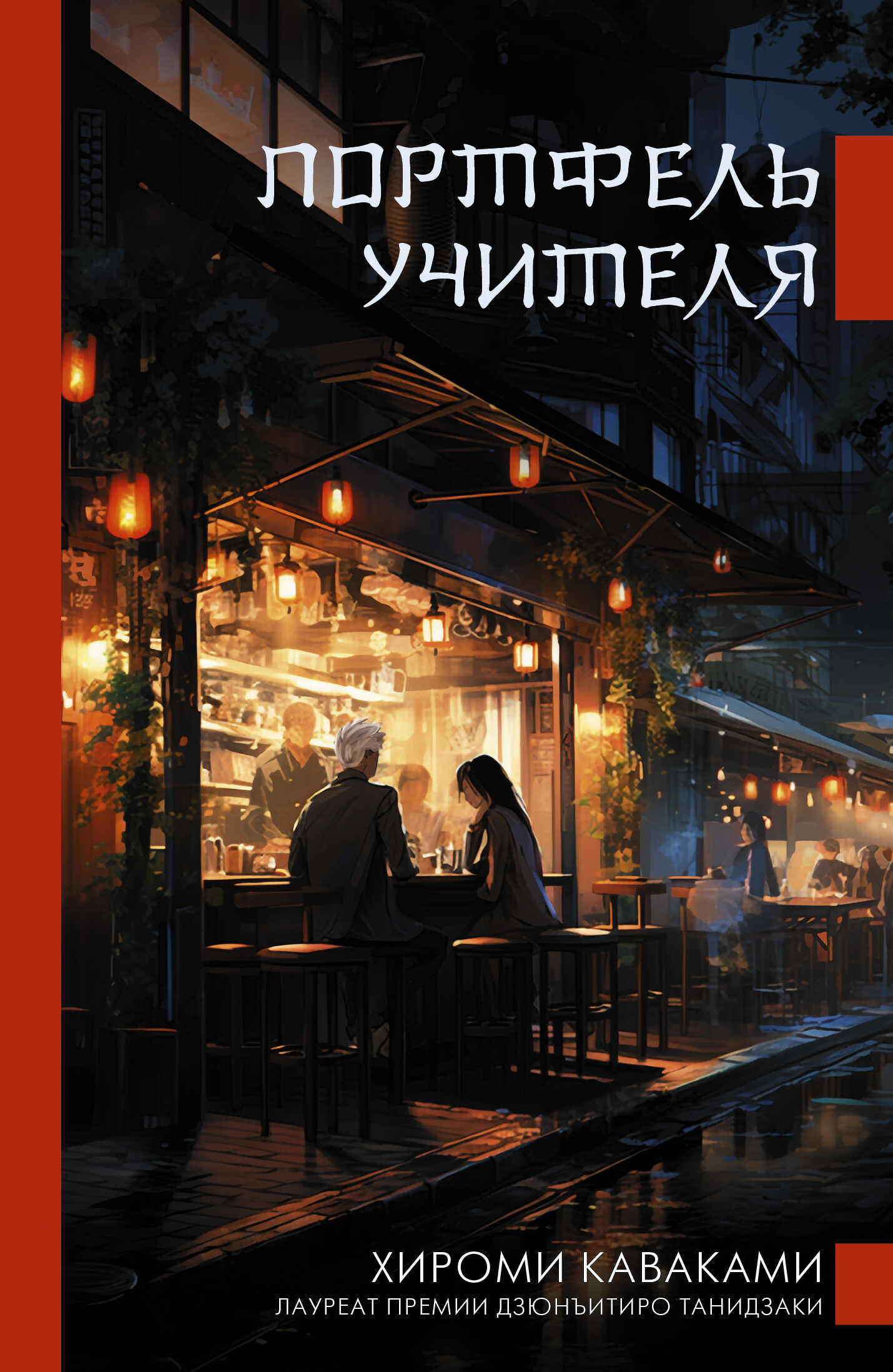данными аэродрома Чкаловский. Лететь туда из Кубинки минут пятнадцать и надо было заранее подготовиться к посадке. Но моя рука нащупала только воздух! Обернувшись, я с ужасом обнаружил, что портфеля нет. Я забыл его у диспетчера!
Доложил командиру, тот скомандовал: «Давай вылезай и бегом за портфелем!» Двигатели выключать не стали, а меня выпустили через люк аварийного покидания в полу кабины экипажа. Выбравшись из самолета, я побежал по снежной целине к полосе. КДП находился аккурат напротив стоянки нашего самолета. Не такое уж и большое расстояние – наверное, метров 600700. Но для этого надо было пересечь ВПП, что категорически запрещалось без специального разрешения руководителя полетов. На мне была повседневная офицерская форма, а сверху – демисезонная летная куртка и шапка-ушанка. Запыхавшись и набрав полные ботинки снега, я подбежал к полосе. Остановился и огляделся по сторонам. Видимость хорошая, и самолетов на посадочных курсах нет. И вроде бы полеты в это время на аэродроме не планировались.
А, была не была! Я бросился бегом через «бетонку», а там уже и до КДП рукой подать. Мне повезло: возле диспетчерской стоял дежурный «Урал», и в него загружался перелетающий экипаж, чтобы ехать на стоянку. Не останавливаясь, на бегу, я попросил меня обождать: только портфель возьму! Слышу – за моей спиной кто-то спрыгнул с «Урала». Это был штурман. Оказывается, он тоже забыл портфель у диспетчера! Я спас его своим появлением, иначе он бы обнаружил пропажу портфеля уже в самолете.
Фу, слава Богу! С портфелем в руках я немного отдышался на деревянной лавке «Урала», пока он вез нас по объездной дороге. Самолет ждал меня с запущенными двигателями. Аварийный люк был открыт, и я наконец-то оказался на своем рабочем месте.
До Чкаловской, как и планировали, долетели без проблем за пятнадцать минут. Я же был весь мокрый: майка и форменная рубашка – хоть отжимай, а в ботинках растаял набившийся туда снег. Так что я еще долго обсыхал, пока мы оформлялись на вылет, а потом досыхал по дороге домой. И, как ни странно, после такого стресса и пробежки по снежной целине на морозе, даже насморка не схватил.
ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК
Когда мне было лет восемь, я всерьез и на всю жизнь «заболел» авиацией – запоем читал книги о летчиках и самолетах, по крупицам накапливал знания на эту тему, отчаянно завидовал тем, кто жил в больших городах, где были аэроклубы. Наш город Чайковский был далек от большой авиации, и приобщиться к ней я мог только в авиамодельном кружке на станции юных техников. Осенью 1969 года в городской газете «Огни Камы» я случайно наткнулся на объявление, в котором сообщалось о наборе желающих в парашютную секцию. Наконец-то! Свершилось: авиация пришла и к нам!
Показал объявление своим друзьям-одноклассникам, и в назначенное время мы оказались в помещении профкома «Воткинскгэсстроя». Желающих набралось более двадцати человек, но школьниками были только мы. Секцией руководили два парня лет восемнадцати-девятнадцати, которые прошли подготовку в Ижевском учебном авиационном центре и уже прыгали с парашютом. Время стерло из моей памяти имена и фамилии этих парней – как-никак, с тех пор прошло более полувека.
В профкоме под парашютную секцию выделили специальную комнату. Нашими учебными пособиями были плакаты по парашютной подготовке, соответствующие наставления, действующие парашютные приборы и два настоящих парашюта – ПД-47 и Д-18.
Перед началом занятий у нас потребовали медицинские справки о допуске к парашютным прыжкам. Пошли своей дружной командой одноклассников в городскую поликлинику, а там передо мной «опустили шлагбаум». В первом же кабинете попросили предъявить паспорт, так как парашютные прыжки разрешалось выполнять с шестнадцати лет. Мои друзья родились осенью и в школу пошли не со своим 1953 годом, а годом позже. И у них уже были паспорта. Меня же отправили восвояси: иди подрасти сначала! Казалось, не прыгать мне с парашютом. Но все же я нашел выход из тупика. Результаты медосмотра записывали на специальных бланках поликлиники, которые лежали в свободном доступе в регистратуре. Я взял один чистый бланк и аккуратно скопировал туда все записи с бланка моего товарища, а потом вложил его в общую кучу справок. В регистратуре все их проштамповали – и готово: я «прошел» медицинскую комиссию с допуском к парашютным прыжкам!
На занятиях в секции мы досконально изучали устройство парашюта, специальных приборов и учились укладывать парашют, постоянно совершенствуя свои навыки. Пристальное внимание уделялось действиям в особых случаях при выполнении прыжка. Весной, когда стало тепло, и земля подсохла, мы вытаскивали парашюты на пологий берег Камы. Там, надев подвесную систему и распустив купол, бежали навстречу ветру. Купол быстро наполнялся и тянул вверх. Иногда удавалось пролететь даже несколько метров!
Наши руководители и наставники обещали организовать парашютные прыжки летом на базе Ижевского УАЦ, но с конкретной датой ясности не было. В августе родители с младшими братьями уехали отдыхать в Крым, а я остался дома под присмотром двоюродной сестры Тони, которая в то время жила у нас и работала у папы в «Воткинскгэсстрое».
Долгожданный момент наступил в начале августа, и мы поехали в Ижевск. Весь день накануне исполнения нашей мечты мы провели в парашютном городке, где оттачивали действия при выполнении прыжка и в особых случаях, а также слушали инструктаж опытных парашютистов. Уже ближе к вечеру приступили к укладке парашютов. Каждый укладывал тот, с которым ему предстояло прыгать.
Ижевский УАЦ занимался подготовкой не только парашютистов, но и летчиков на вертолетах Ми-2. Целый день над головой тарахтели эти «маленькие стрекозы», летая друг за другом по бесконечному кругу полетов. С началом заката полеты закончились, и на аэродроме воцарилась тишина. К парашютному городку подошел полковник со значком военного летчика 1-го класса. Облокотившись о штакетник, он курил и с улыбкой наблюдал за нами. По солидным орденским планкам было понятно, что это фронтовик. Наблюдая за нами, он, видимо, вспоминал свою аэроклубовскую молодость.
После захода солнца