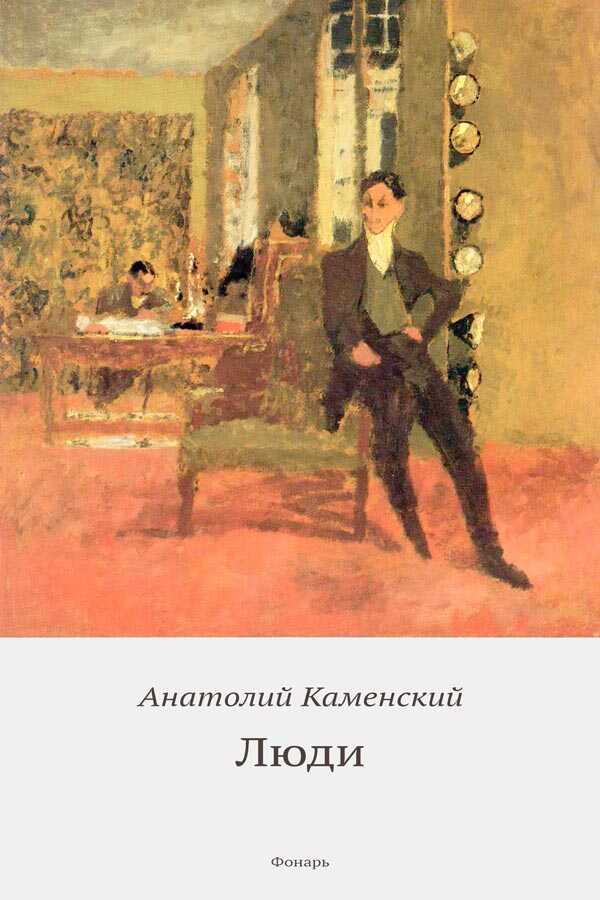Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 30
на табуретку, чтобы повесить шубу на вешалку под потолок – или тот кусок простыни, что здесь назывался потолком. Рынок, весь затянутый сверху тканью, был похож на цирк шапито, который однажды приехал и остался навсегда.
– Еще что-то, Адюш? Ты по делам или просто?
– Я просто. Мне… дома сидеть не хотелось.
Не скажешь же прямо, что испугалась чашки. Осколков, чайного пятна на полу, звука и общего ощущения хаоса. Не скажешь же, что вселенная утром будто раскололась на несколько частей, и как теперь пить чай, как теперь жить, если из другой чашки, – непонятно.
Вета улыбнулась. Губы у нее были полные, нос с горбинкой, щеки впалые, глаза умные – у таких глаз никогда не появляется складочек от улыбки. А может, люди с умными глазами вообще как-то иначе улыбаются – Ада не знала, у нее самой не получалось давно. Черты другого, несколько минут назад увиденного у тети Ани лица снова проступили. Глаза серые – и радужка венчается темной полосой. Зубы, зубы кривые и крупные, нежно-желтые от сигарет, а еще ямочка только на левой щеке – и как Ада могла забыть?
– Пойду я, теть Вет. До свиданья!
– Пока, Адюш. Про шубу спроси, не забудь.
Она шла через ряды, мимо барахольщиков и рукодельниц, мимо мяса и сыра, кваса и чайного гриба, впитывая кислые, сладкие, соленые запахи и неся на плечах тот самый – запах взрослости, тяжелой царственности. Рынок был ее любимым местом из тех нескольких, где она обычно оказывалась: в больнице было слишком много старух, а на бабушкиной даче – комаров, а на рынке все было славно. Он напоминал, что мироздание все-таки чаще всего постоянно и что, даже если все рассыплется, выключится, исчезнет, – рынок останется, и тетя Ани останется, и Вета, и их помидоры с платьями.
– Ада! Тебе говорю, ну! Чего одна?
– Да так, дядь Вов. Гуляю.
Дядя Вова, по большому счету, был никакой не дядя и не Вова – ему было лет тридцать, а звали его на самом деле Вольдемар. Он ходил в большом квадратном пиджаке и в бескозырке на лысеющей голове, а на рынке продавал собственного производства самогон – по слухам, какой-то волшебный, хотя сам дядя Вова утверждал, что весь самогон волшебный.
– Поди сюда, пока мамка не видит, а? Ты, небось, и не пробовала ни разу? Да не смотри на меня так, тебе бесплатно.
Мама говорила у незнакомых ничего не брать – но какой дядя Вова был незнакомый, с таким-то горбатым носом и многозубым ртом, с таким-то скрипящим и хрипучим тенором?
Они сели за этажеркой, заставленной трехлитровыми банками и бутылками из-под «Столичной». Под Адой пошатнулась и успокоилась складная табуретка. Дядя Вова протянул пластиковый стаканчик, примятый с одной стороны и едва ли наполовину полный.
– Давай, Ада, не ссы. Лучше со мной, чем за гаражами где-то, да? Хоть попробуешь.
Раньше Ада пила только вино – один раз, когда только поступила в поварское, на пожарной лестнице между парами. С ней была одногруппница Люся – из-под майки были видны ее белый живот с родинкой у пупка и лямки настоящего лифчика с косточками. Она красила губы и широко улыбалась светло-розовыми полосами на зубах. Люсе, парню ее Гене, какому-то Лехе и старшекурснику Тиме Ада рассказывала их гороскоп, а они чокались найденными в аудитории кружками, и все было ясно, тепло и весело – сентябрьское утро, рыжие перила, восковой вкус Люсиной помады, сама Люся, которая не переставала смеяться и попискивать, мол, не умеешь, не кусайся.
Из поварского Ада отчислилась в январе: как-то не получилось учиться. И потом поступить куда-то тоже не получилось, да и не хотелось.
Она понюхала самогон – он пах не кисло, как вино, а остро и тошнотворно, и Ада хотела было отказаться, но дядя Вова на нее смотрел, а знакомые черты, надорвав, как пакет молока, край познаваемой реальности, проступали изнутри. Ей казалось: вот-вот, сейчас, она все поймет, все вспомнит. Выпили.
– Ну как тебе?
– Отвратительно, – честно ответила Ада.
– Давай еще по одной, легче пойдет.
Дядя Вова подвинул к ней свою табуретку и налил еще. Ада все смотрела, смотрела на него – так бывает, когда забываешь, куда дела ключи или что означает крестик, начириканный ручкой на ладони, как зовут троюродного племянника или что еще нужно нарезать в салат оливье. Она выпила еще, и на колено ей опустилась большая, опушенная тонкими волосками лапа. Поелозила по бедру.
– Мамка-то твоя, наверное, вообще жизни тебе не дает, да?
Ада не поняла, что это должно было значить: как это – жизни не дает? Поэтому она промолчала. Лапа поползла вверх, сминая некогда бабушкино платье.
– Ты, небось, и целоваться не умеешь. Давай научу, чтобы перед мальчиками не позориться.
И когда его колючее лицо мокро размазалось по ее лицу, Ада вспомнила.
«Заяц! У меня все хорошо. Ноги берцами стер, но кормят нормально, хоть похудею наконец-то. Маме привет. Скучаю по вам двоим красивым – очень! Кузю в нос от меня поцелуйте».
Его звали Гришей – он был всегда высокий, загорелый и взрослый. Говорил, что сам выдумал Аде имя. В детстве сажал себе на спину и катал по квартире, как пони. Чинил ее игрушки – «я же единственный мужчина в доме». Когда Адины вещи вытряхнули из портфеля в окно, такого леща залепил однокласснику, что чуть не загремел в детскую комнату милиции. Выпускаясь из школы, тащил Аду на плече, пусть она была уже большая и тяжелая. И она звенела, звенела, звенела колокольчиком и все думала, что отдавит Грише что-нибудь своими вечно торчащими костями.
Было в нем что-то от несуществующего папы, от вообще идеи отца, никогда Аде не понятной, от Конька-Горбунка, от Фредди Меркьюри и от Бога – и письма из армии у него были длинные и нежные, и на фотографиях он был красивый-красивый, даже с неправильно сросшимся носом, даже с подростковыми усиками в восьмом классе, даже с нечесаными патлами.
– Какая же ты, блядь, психованная! Психованная дура! Уебывай отсюда на хуй, пока я тебя не убил к чертовой матери!
Почему-то вокруг был вечер, темно-синий рынок, сваленная этажерка, осколки стекла и текучие лужи, пахнущие больницей. Ада вскочила, уронив табуретку, и побежала обратно – сквозь прилавки, рассыпчатый песок, траву и детскую площадку, спотыкаясь об оградку.
Она почувствовала, что улыбается, глупо и почти болезненно, впервые за два года. И руки – впервые за два года стали легкими, и Ада широко болтала ими в воздухе, почти не обращая внимания на взгляды прохожих.
– Где он? Почему он уехал? Он приедет? – спросила она с порога.
– Кто, Адушка? Где ты была?
Глупая, глупая мама – застыла у плиты со своим глупым половником и глупым котом в ногах.
– Гриша! Куда он уехал? Снова в армию? Почему он нам не пишет больше? Где его письма? Ты их скрываешь от меня?
– Ты не переживай, главное, Адушка. Давай я тебе чайку сделаю? Посидишь, успокоишься…
– Я не буду пить чай! Я не буду пить чай из разбитой чашки! Я порежу себе рот!
Мама растерла глаза руками – смяла лицо, как грязную салфетку.
– Сядь, пожалуйста.
– Я не хочу!
– Умоляю, Адушка. Гриша сейчас в другой квартире живет. Давай ты сядешь, а я ему позвоню. Он к нам приедет. Сейчас приедет.
Ада грохнулась на стул. Все было неправильно: обои в вензелечках, напоминающих смеющиеся лица демонов, сотейник и сковородка на плите, оставляющие на дверцах кухонных шкафчиков матовые следы пара.
Мама ушла в большую комнату, к телефону. Звонить Грише, объяснять, куда приехать. Из приглушенной коврами и стенами речи Ада разобрала свой адрес.
Она встала к шкафам. Высыпала специи, вынула тарелки и чашки – и в каждой искала его письма: куда-то же мама должна была их спрятать?
Минут двадцать, не больше, – в дверь позвонили. Ада вскочила, выбежала и сразу упала в Гришины большие объятия, спрятала нос в широких-широких плечах – что Москва-река поперек. И Гриша пах так же, как раньше, – тяжелым мужским потом, сигаретами, зубным порошком, кремом для обуви.
– Простите, что поздно так, мне просто сказали звонить, если вдруг опять, – затараторила мама. – Она таблетки сегодня не выпила, чашку разбила, испугалась…
– Выписки есть? – спросил Гриша.
– Ой, были где-то, подождите секундочку… Я
Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 30