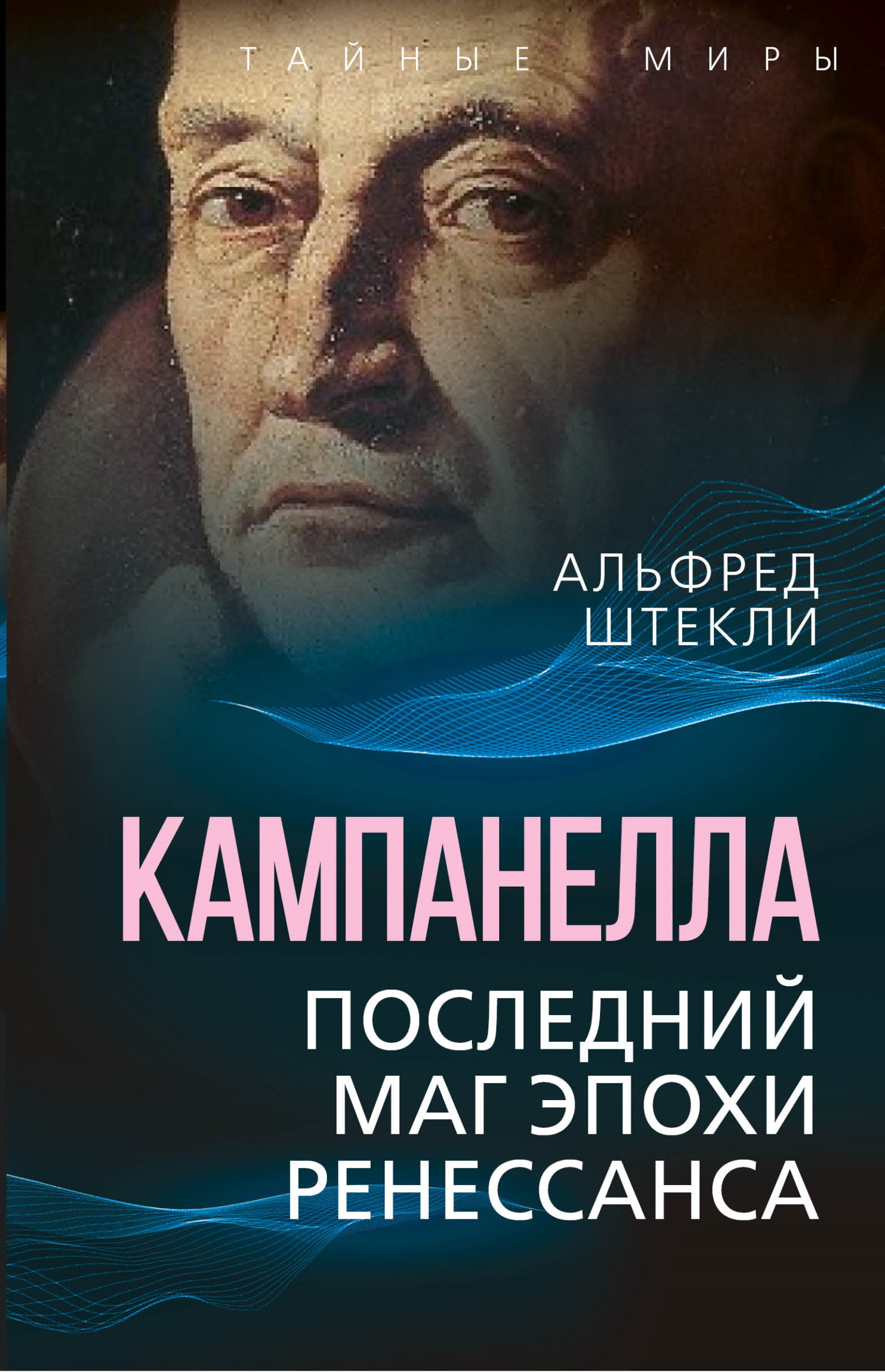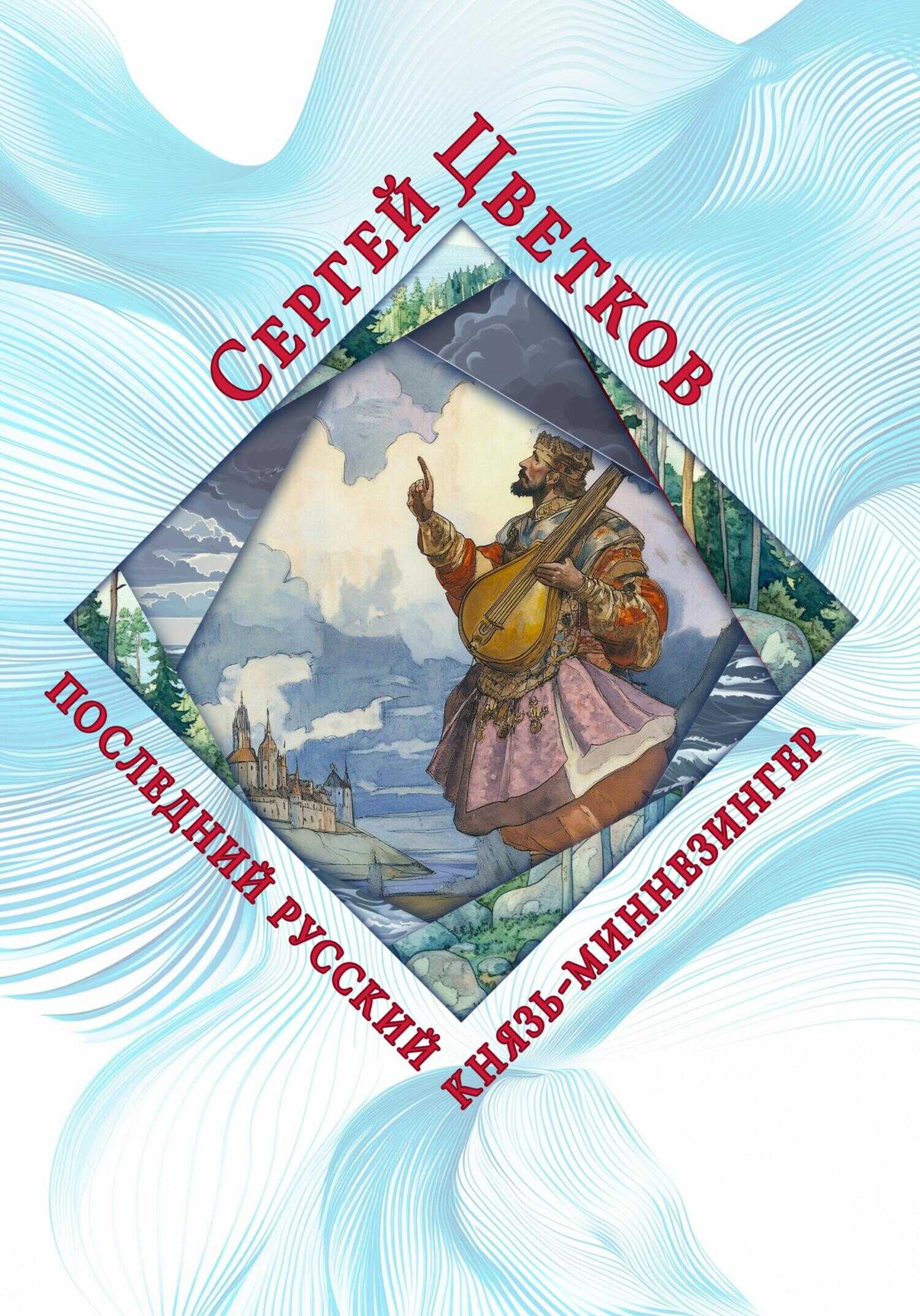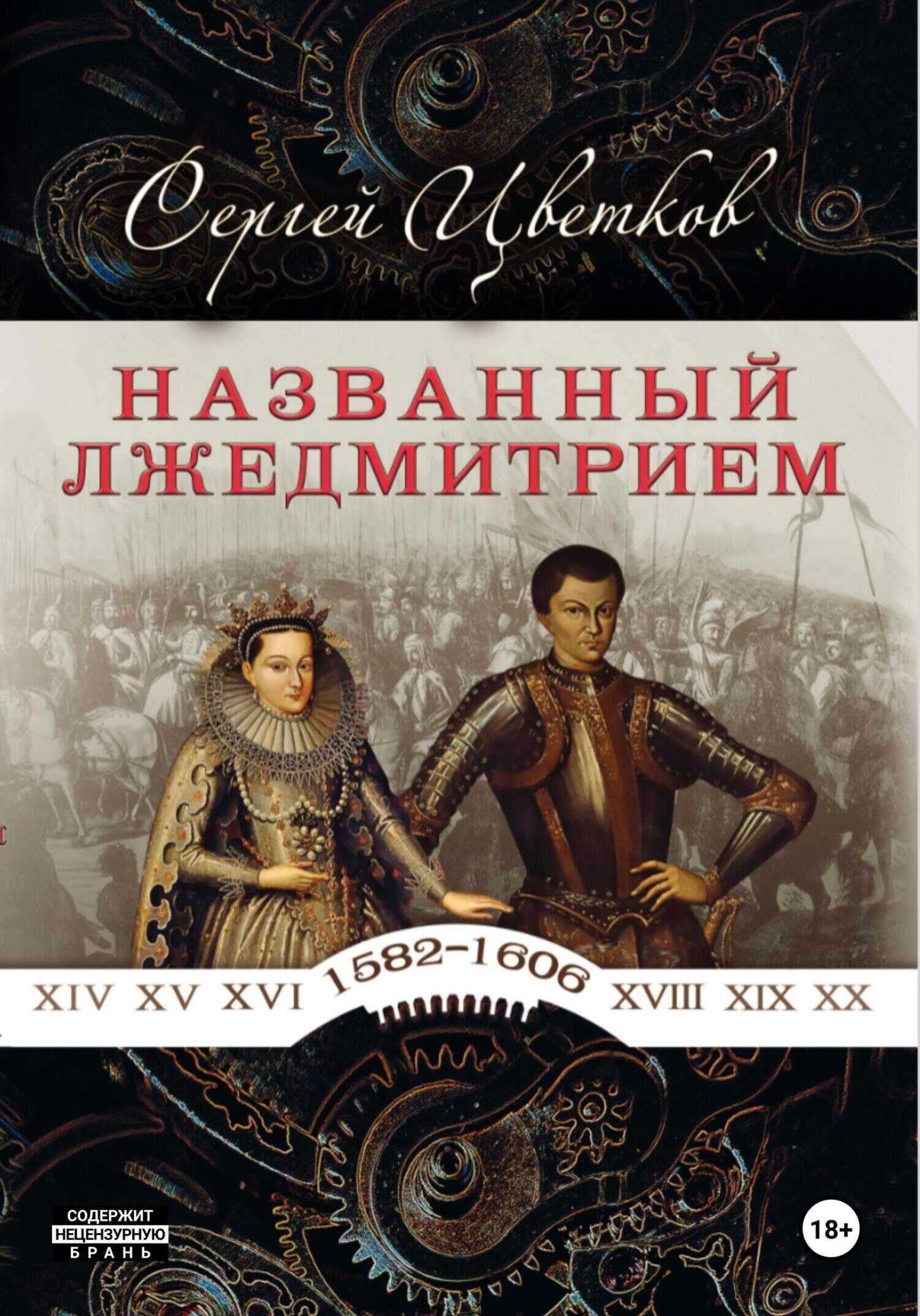то поколение, которому дано пережить редкий исторический момент, когда действительность кажется достойным венцом всего предыдущего развития.
Монах
Между тем, с окончанием отроческого возраста, выяснилось, что Филиппо не собирается идти по стопам отца. О военной службе он думал с отвращением. Поглощенный научными занятиями юноша желал служить одному государю – Истине. Из всех возможных побед лишь триумфы разума представлялись ему достойными человека, а единственным оружием, которое он соглашался пускать в ход, были разящие аргументы.
Но где продолжить ученье? Отец Филиппо не обладал достаточными средствами для того, чтобы оплатить сыну образовательный курс в одном из итальянских университетов. Приходилось думать о монастырской келье. В те времена для людей, стремившихся получить образование, монашеская сутана была не менее предпочтительным одеянием, чем плащ школяра. Многие монастырские школы соперничали в славе с университетами, а обучавшиеся в их стенах послушники могли, не отвлекаясь на поиски хлеба насущного, посвящать себя, как того хотел Бруно, научным штудиям.
Крупнейшим монастырем Неаполя был Сан-Доменико Маджоре, принадлежавший ордену доминиканцев. Некогда под его стрельчатыми сводами величайший теолог средневековья Фома Аквинский «при огромном стечении слушателей внушал свое поразительное богословское учение», как гласила памятная надпись на мраморной доске перед входом в одну из аудиторий. Всеобщим почитанием была окружена келья «князя философов», где он обдумывал свои пять доказательств бытия Божьего, а также бесценная реликвия – распятие, с которого, по легенде, Спаситель сошел для беседы с автором «Суммы теологии». В 1567 году, спустя пять лет после поступления Бруно в монастырь, папа Пий V провозгласит святого Фому Аквинского «Учителем церкви».
Свое решение стать монастырским послушником Бруно принял после того, как однажды был допущен присутствовать на богословском диспуте в Сан-Доменико Маджоре. Четырнадцатилетний юноша был поражен ученостью докторов богословия, их великолепным знанием текстов Священного писания, творений святых отцов и древних философов, тонкой искушенностью по части полемических приемов и построения неопровержимых силлогизмов. У кого же еще, как не у этих сведущих мужей, учиться философии, где же, как не здесь, постигать накопленную веками мудрость мира? По истечении годового срока послушания Бруно принял монашество с именем Джордано. Тонзура стала его пропуском в кладовую знаний.
Библиотека монастыря и в самом деле была одной из богатейших в Европе. Правда, в ней имелся закрытый отдел для злонамеренных сочинений, занесенных в «Индекс запрещенных книг»[1] и выдаваемых только с личного разрешения генерала ордена. Но это было в порядке вещей, поскольку именно доминиканцы повсеместно возглавляли инквизиционные трибуналы и составляли цензурные списки. Недаром в Сан-Доменико Маджоре неподалеку от кельи Фомы Аквинского располагались тюремные клети, словно в напоминание о том, что человеческий разум может как возвысить, так и погубить тело и душу человека.
Однако и того, что имелось в монастырской библиотеке в открытом доступе, вполне хватало для фундаментального гуманитарного образования. Из многолетних молчаливых бесед с Платоном и Аристотелем, с мыслителями элейской и неоплатонической школ, с учителями герметической мудрости, с каббалистами, Аверроэсом и кардиналом Николаем Кузанским Бруно почерпнул первые мысли о великом единстве Вселенной, природы и человека, материального и духовного начал.
Судя по всему, Бруно обладал уникальной памятью, которую он еще сильнее развил специальными упражнениями, основанными на создании прочной цепи ассоциаций. Это позволило ему изучить многие языки: латынь, французский, испанский и немного греческий. Его способность запоминать тексты целыми страницами являлась основой его невероятной эрудиции и вызывала удивление и восхищение у окружающих. По словам самого Джордано, его даже возили в карете в Рим, чтобы продемонстрировать «искусство памяти» перед самим папой Пием V.
Вместе с тем обстоятельное знакомство с вершинами человеческой мысли развило в Бруно высокомерное презрение интеллектуала к официальной церкви, а затем и к христианской религии вообще. По его собственным словам, он «с детства стал врагом католической веры… видеть не мог образов святых, а почитал лишь изображение Христа, но потом отказался также и от него». Парадоксальным образом, облачившись в монашескую сутану, Бруно перестал быть христианином. Его неудержимо привлекала иная мудрость, иная вера.
«Возвращение» эпохи Ренессанса к наследию античности шло по двум направлениям: европейских гуманистов в равной мере интересовали как философские и естественнонаучные идеи древности, так и его оккультные учения. Для постижения последних чрезвычайно важная роль отводилась сборнику текстов, приписываемых легендарному магу и мудрецу Гермесу Трисмегисту, «египетскому Моисею». Возникшие под пером гностических писателей II—III веков н. э., сочинения эти считались квинтэссенцией египетской мудрости, одним из древнейших, наряду с Библией, кладезей знания, священным источником, из которого обильно черпала классическая философская мысль.
Лучшие умы Возрождения разделяли данное заблуждение не только по причине неразвитости методов историко-филологического анализа, но также и потому, что оно опиралось на авторитет Отцов Церкви. Раннехристианская богословская традиция склонна была выискивать предвозвестия и пророчества о Сыне Божием в наиболее «авторитетных» языческих религиях. С легкой руки Лактанция («христианского Цицерона», современника императора Константина Великого) Гермес Трисмегист был зачислен в разряд языческих провидцев и пророков, предсказавших приход христианства. В своем сочинении «Асклепий» Лактанций писал, что Гермес «хотя был и человек, но жил очень давно и был вполне сведущ во всяком научении, так что знание многих предметов и искусств стяжало ему имя Трисмегист (Триждывеличайший. – С. Ц.). Он написал книги, и притом многие, посвященные знанию божественного, где утверждает величие высочайшего и единого Бога и называет его теми же именами, которые используем и мы, – Бог и Отец».
Блаженный Августин относил Гермеса к числу древних мудрецов, которые учили «чему-то такому, от чего люди делаются блаженными», хотя и с той оговоркой, что знания свои он получал от демонов. А у Климента Александрийского герметическое учение положено в основу египетского культа: египетские жрецы во время своих торжественных процессий якобы несли впереди священные книги Гермеса Трисмегиста, коих Климент всего насчитывал 42: 36 философских и 6 медицинских трактатов.
Знакомство людей Возрождения с учением Гермеса ведет начало с 1463 года, когда флорентийский ученый Марсилио Фичино перевел на латинский язык первый трактат Герметического свода – рукописного греческого сборника, доставленного по приказу Козимо Медичи во Флоренцию из недавно павшей Византии. В предисловии к этому сочинению Фичино сформулировал ренессансную генеалогию философской мысли, идущую от Трисмегиста: «Его зовут первым автором теологии: ему наследовал Орфей, второй среди древних теологов: Аглаофему, посвященному в священное учение Орфея, наследовал в теологии Пифагор, чьим учеником был Филолай, учитель нашего божественного Платона. Итак существует единая древняя теология, берущая начало от Меркурия (Гермеса. – С. Ц.) и достигающая вершины в божественном Платоне».
Влияние герметических трактатов на современников Фичино было огромным. Достаточно сказать, что