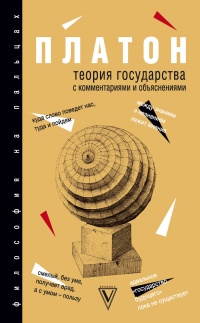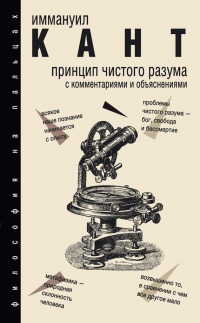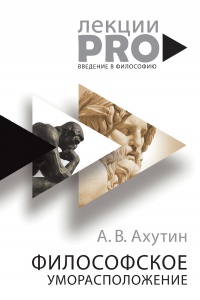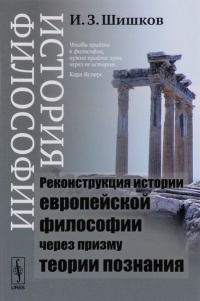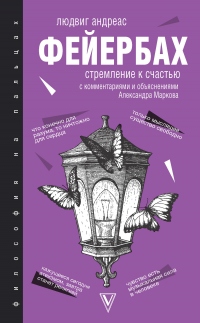Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 80
Дитя, не только не понимающее еще ни рангов, ни чинов, ни всех отличий, установившихся вне Царствия Божия, разрушивших родство, возникших на его развалинах, но и сознающее свое родство со всеми без различия положений или не знающее ничего, вне родства заключающегося, и потому готовое на услуги всем без соображения польз, выгод, без всякого лицеприятия, дитя, обладающее такими свойствами, уясняет ученикам, почему Царство Божие принадлежит детям и в чем они, взрослые, должны уподобиться детям, чтобы сделаться членами этого царства; уподобиться же детям — значит сделаться сыном человеческим или вновь родиться им.
Федоров отсылает к знаменитому евангельскому эпизоду, когда Христос на вопрос учеников, «кто больше всех в Царстве Небесном», призвал ребенка и поставил его посреди учеников, сказав: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18, 1–3).
Если бы под изображением Рождества Христова или под изображением Матери, носящей на руках Сына Человеческого, поместить надпись «Аще не будете, как дети, не внидите в царство Божие», то этим словом Евангелия не раскрывался ли бы глубочайший смысл пришествия Сына Божия на землю к людям, в непрерывном споре и борьбе за первенство или за существование находящимся, к людям, как высокостоящим в царстве земном, каковы мудрецы, цари (волхвы), так и к людям, стоящим на самой низкой ступени общества, каковы пастыри, ибо тем образцом, на который Христос указывал ученикам впоследствии, Он и Сам был в высшей степени; в зрелом же возрасте Он проповедовал то, чем был и в детстве. Самые ангелы, как принадлежность картины Рождества Христова, служат образцами достигших совершеннолетия и не утративших детской чистоты; они те же мудрецы и пастыри, только в идеальной их форме, в идеальном виде; поклонение пастырей и царей-мудрецов указывает, что они поняли, в чем состоит нравственный образец и критерий, а потому и представлены наверху преображенными (ангелами).
В данном абзаце Федоров опирается на символику иконы, изображающей Рождество Христово. В пространстве этой иконы соединены образы идущих на поклонение Христу волхвов, пастухов, пришедших к яслям, ангелов, поющих славу Богу.
Вся нравственность первых трех Евангелий заключается в том, чтобы обратиться в дитя, родиться сыном человеческим, совершенно не ведающим земных отличий и, напротив, глубоко сознающим внутреннее родство, желающим служить, а не господствовать. Ребенок, свободный от борьбы за существование, не вынуждаемый еще употреблять свои силы на приобретение средств жизни, может бескорыстно расходовать их на услуги всем, не признавая в этих услугах рабства или чего-либо унизительного, как не видел унижения и сам Христос, омывая ноги ученикам, спорившим о первенстве.
Указанием на дитя как на образец карается прежде всего гордость, порок, которого нет у детей, порок, столь трудно искоренимый у взрослых, и особенно у ученого сословия; карается этот порок, можно сказать, истинно божественным способом, превращением мнимого достоинства в великое действительное. Гордость растет вместе с ростом отвлеченности, с самим отрицанием; буддист, признавший мир своим представлением (миражем, недействительностью), есть самое гордое ничтожество. Христианство есть сознание этой гордости и отрицание ее, а вместе и возвращение трудом действительности.
Таким образом, дитя как критерий есть отрицание неродственности, рангов, чинов, всего юридического и экономического и утверждение всеобщей родственности, и притом не на словах или в мысли только, а на деле (бескорыстная услужливость). Родственность есть и пробный камень, и компас в общем деле, в общем ходе…
В детском чувстве всеобщего братства скрывалось, заключалось то, что каждый человек есть сын, внук, правнук, праправнук… потомок отца, дедов, прадедов, предков, общего, наконец, праотца, следовательно, в этом чувстве заключалось не только теснейшее соединение настоящего, живущего (сынов), но такое же или даже еще и большее соединение настоящего с прошедшим (отцами), в противоположность учениям древних и новых философов, ошибка которых и состоит именно в разрыве настоящего с прошедшим.
В отношении сына к отцу, внука к деду и вообще потомка к предку заключается не одно только знание, но и чувство, которое не может ограничиться представлением, мыслью, а требует видения, личного отношения, требует быть лицом к лицу; потому-то в родственности, как критерии, и заключается требование воскрешения. Требование видимости не ограничивается внешностью, ибо в понятие родственности входит необходимо искренность и откровенность, и потому во внешности выражается вся глубина внутренности, лицезрение делается душезрением. Основное свойство родственности есть любовь, а с нею и истинное знание; в отношениях раба и господина, в отношениях граждан между собою существует скрытность и неискренность, следовательно, нет истинного знания, нет и любви сыновней и братской.
Итак, детский возраст определяется внешне — действием объединяющих и бездействием разъединяющих причин, а внутренно — сознанием родства и чувством смертности. Критерий христианства берется из начала, из корня, из основы; тогда как критерий нынешнего новоязыческого века требует жизни, согласной не с беспорочною природою, т. е. не с природою в ее начале, в ее основе, а с природою вообще, и обещает за это счастье личное, не исключающее, однако, смерти (будете счастливы, но смертию умрете); христианство же обещает не отдельное, личное, а общее счастие, т. е. Царство Божие.
Чист человек и мир только в его источнике, в его детстве: детство и есть возвращение к началу. Сыновняя и дочерняя любовь, любовь братская, позднее превращается в половую любовь; и только тогда, когда половая любовь заменится воскрешением, когда восстановление старого заменит рождение нового, только тогда не будет возвращения к детству, потому что тогда весь мир будет чист. Нынешнее наше тело есть произведение наших пороков, личных и родовых, а мир есть произведение слепой, бесчувственной силы, носящей в себе голод, язвы и смерть; поэтому соображать свои действия с устройством своего тела (следовать природе, как то учила старая и учит новая языческая мудрость), требовать подчинения слепой силе природы и делать свое тело критерием нравственности — значит отрицать нравственность. Как соображать свое поведение с устройством своего тела, когда это тело само есть результат поведения, т. е. порочного поведения? Принимать за норму дитя, т. е. существо, в котором не появилось еще ни вражды, ни похоти, а господствует привязанность, и наибольшая к родителям, — это значит принять за норму момент беспорочности; детство — момент отсутствия зверства и скотства у малюток даже хищных животных, ибо и плотоядные рождаются млекопитающимися. Таким образом, языческая мудрость учит следовать природе, а христианская — беспорочной природе (дитя), и в этом последнем выражается — отрицательно — отсутствие порока, а положительно — исключительное господство родства. Соображаться с устройством нашего организма, который есть бессознательное произведение наших пороков, не может быть принято за правило нашего поведения; наше тело должно быть нашим делом, но не эгоистическим самоустроением, а делом, через возвращение жизни отцам устрояемым. В правиле «следуй природе» заключается требование подчинения разумного существа слепой силе. Следовать природе — значит участвовать в борьбе половой, естественной, т. е. бороться за самок, и вести борьбу за существование, и признать все последствия такой борьбы, т. е. старость и смерть, это значит поклониться и служить слепой силе. Старость же есть падение, и старость христианства наступит, если проповедь Евангелия не приведет человечества к объединению в общем деле; старость человечества — вырождение, старость мира — конец его.
Ознакомительная версия. Доступно 16 страниц из 80