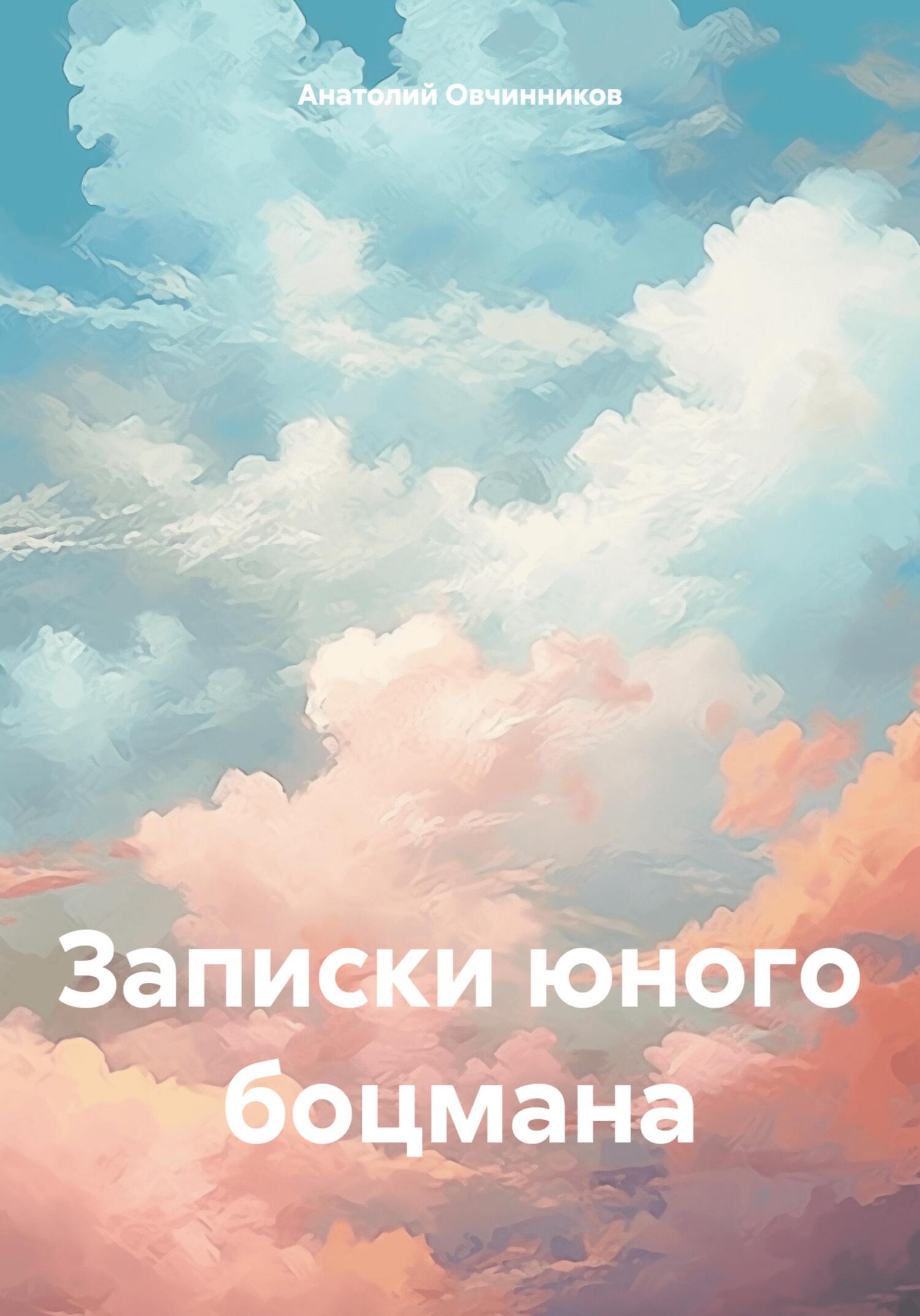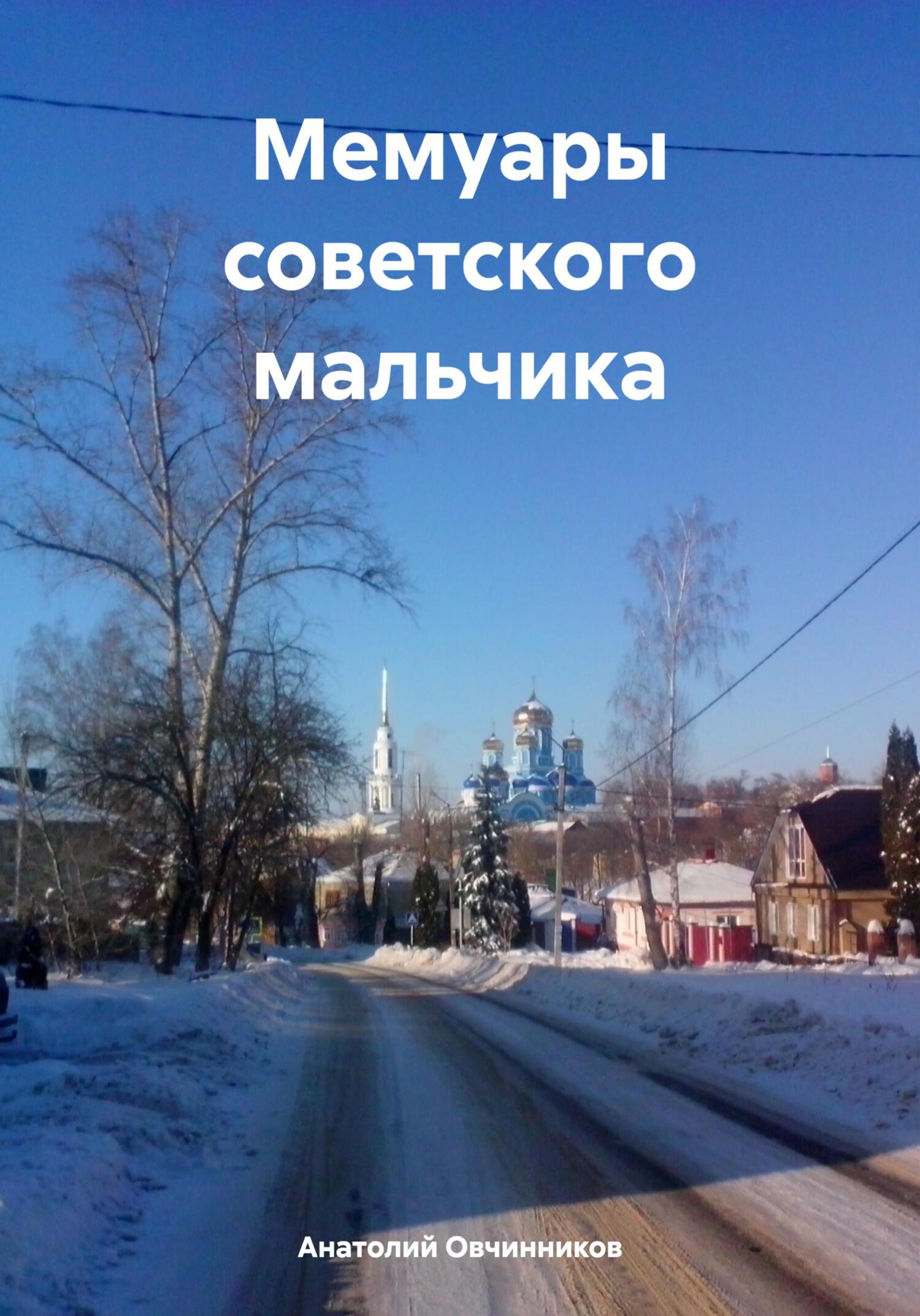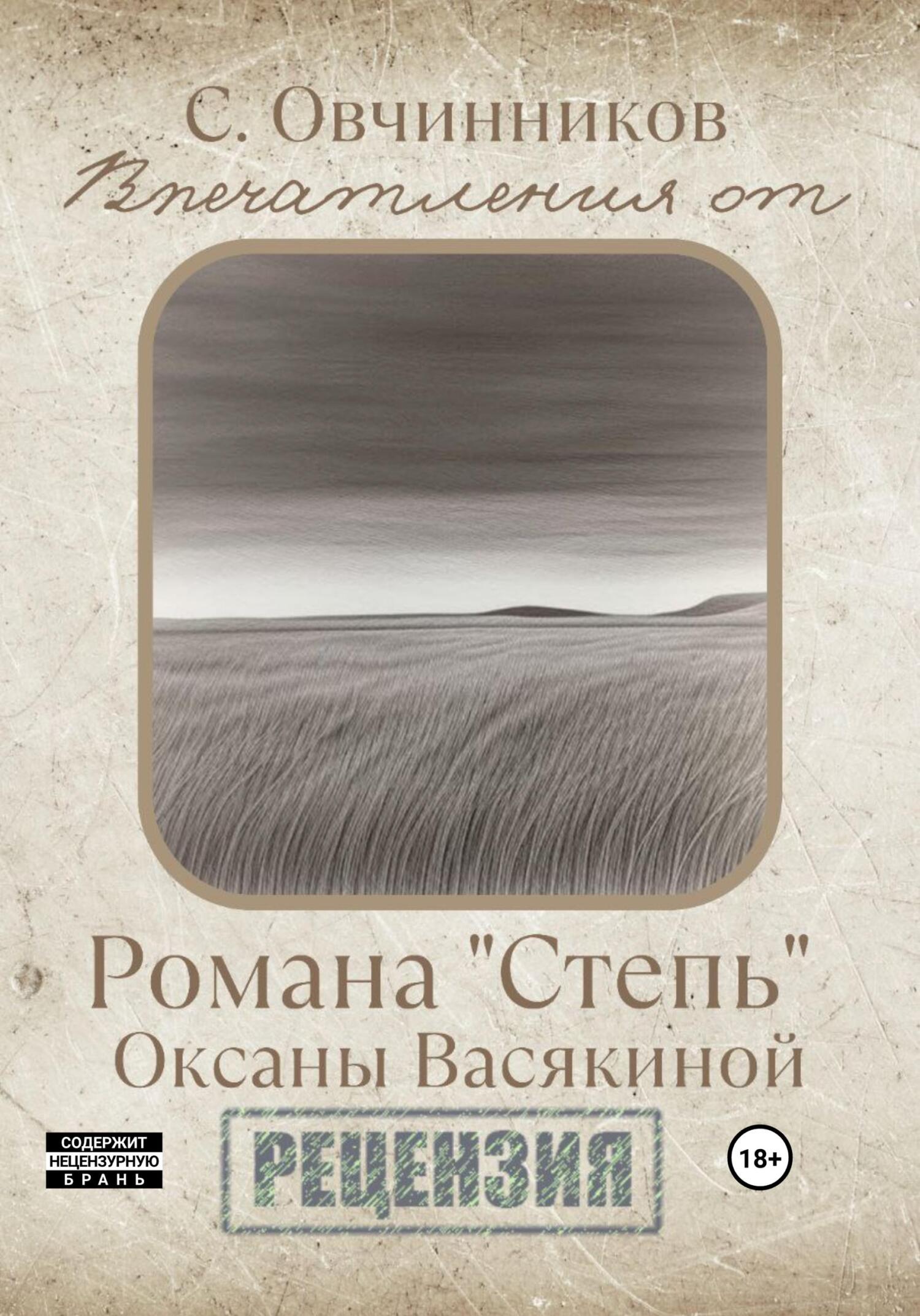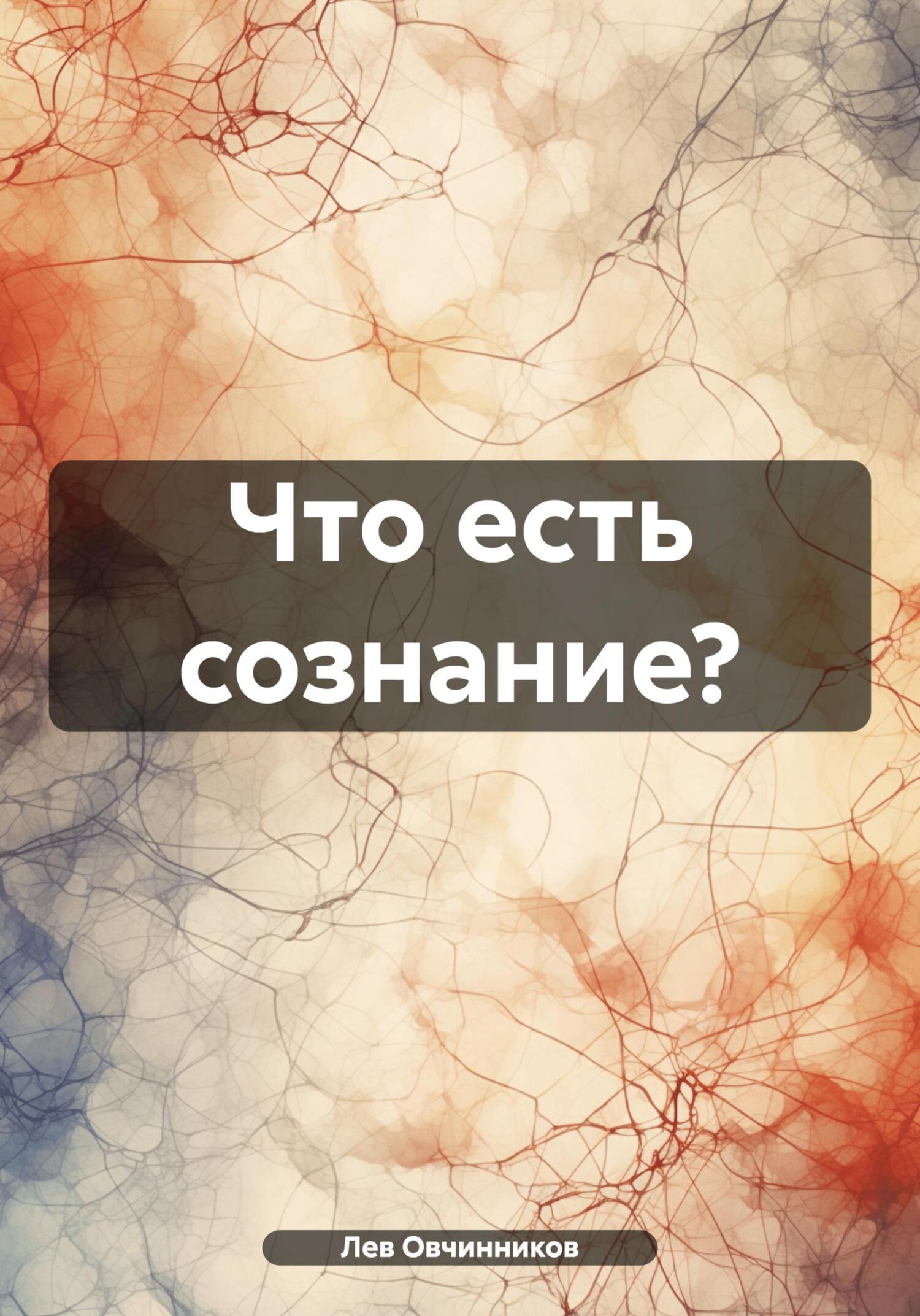время вместе с различными полками, в которые его неоднократно переводили «по воле начальства», он путешествовал по городам и селам царской России, что тогда бывало почему-то очень часто. Военные части помещались по прибытии в казармах, если последние были в том или ином городе, или же в частных домах. Мой дед вспоминал, что в детстве ему приходилось нередко видеть на воротах некоторых домов небольшие жестяные вывески с надписью «Свободен от постоя». Это значило, что в этом доме не могут быть помещены военные по прибытии воинской части. Своего дома у лекаря Сперанского никогда не было.
В 1873 году Нестор Михайлович вместе с семьей, состоящей из жены Александры Егоровны, урожденной Знаменской[42], и двух детей – Николая и Михаила, жил временно в доме своего отца около церкви на Садовой улице. Это был небольшой деревянный дом, какие строились обыкновенно при церквях для причта. В мезонине этого дома 7 (20 н. ст.) февраля 1873 года родился мой дед. Вскоре после рождения третьего сына Нестор Михайлович должен был поехать вместе с 1-м драгунским полком, где он в то время служил, в город Кашин Тверской губернии. Через два года оттуда он был переведен в Тверь, и там семья Сперанских прожила больше десяти лет.
«Мы поселились, – написал в своих воспоминаниях дед, – в небольшом деревянном доме с мезонином на Солодовой улице, которая находилась на окраине города и одним концом выходила на шоссе, ведущее к вокзалу бывшей Николаевской, а теперь Октябрьской железной дороги». Дед показал мне этот дом в 1959 году, когда мы ездили с ним на машине в Калинин, как тогда называлась Тверь. Судя по старым фотографиям, он очень мало изменился за 85 лет! Из этого дома Нестор Михайлович уехал на Русско-турецкую войну.
Отъезд отца на войну и его возвращение дед описал в своих воспоминаниях: «Я отлично помню 1 августа 1877 года, когда отец, живший с нами в Твери и работавший в качестве старшего врача драгунского полка, отправлялся на Русско-турецкую войну и прощался с семьей. Он подводил каждого из сыновей к иконе, висевшей в зале, благословлял и целовал. Старшему брату Николаю в это время было уже около 17 лет, брату Михаилу было около 14 лет, и мне было 4 года. Я помню фигуру матери, которая со слезами на глазах смотрела на эту сцену. Эти необычные действия отца и слезы матери произвели на меня глубокое впечатление, не изгладившееся до сих пор. Остался у меня в памяти и этот зал, и большой цветок филодендрон с крупными прорезными листьями, который стоял в этом зале».
По данным своего аттестата, Нестор Михайлович во время военных действий «состоял в Каларажском отряде на Дунае, против крепости Силистрии, в Ольшеницком отряде против крепости Туртукай. По прибытии в деревню Магалу поступил в состав войск, осаждавших город Плевну. После падения Плевны вошел в состав отряда, оборонявшего Шипку под начальством генерал-лейтенанта Радецкого». В последнем периоде кампании «под командованием генерал-лейтенанта Скобелева 2-го, 28 декабря 1877 года участвовал в сражении под Шейновом и Шипкой. Состоял в 1-м кавалерийском отряде при наступлении от Казанлыка к Адрианополю» и в других местах известных сражений.
Спустя год Нестор Михайлович вернулся. «Возвращение отца с войны, – написал дед, – запечатлелось в памяти в виде какого-то радостного события: отец вошел в парадное крыльцо нашего дома, вслед за ним вошел денщик, который был с ним на войне, у ворот стояла телега, нагруженная вещами, которые тоже были с отцом на войне. Среди этих вещей был железный складной стул, который отец возил с собой в походы… Затем, помнится, в этот же день шли войска, которые проходили по улицам, а на улицах стояли столы, покрытые скатертями и уставленные всякой едой и питьем, – тверские жители радостно встречали возвратившихся с войны солдат. В памяти остались мотив и слова песни, которую пели солдаты, возвращавшиеся в Тверь:
Вспомним, братцы, как сражались
Мы под Шипкой в облаках…»
За участие в военных сражениях и долгую, честную службу Нестор Михайлович был награжден орденами Св. Владимира 3-й и 4-й степени с мечами, Св. Анны 2-й степени, Св. Станислава 2-й степени с Императорской короной и 3-й степени, бронзовыми медалями за кампании 1853–1856 и 1877–1878 годов, румынским Железным крестом. В 1889 году он по выслуге лет вышел в отставку, но остался членом «Бесплатной Лечебницы Военных Врачей в Москве» и продолжал в течение ряда лет прием больных, получил звание почетного члена этой лечебницы и в 1906 году – чин действительного статского советника.
Нестор Михайлович, по словам деда, был очень добрым, скромным, сердечным человеком, безукоризненно честно относившимся к принятым на себя обязанностям, склонным видеть только хорошее во всех людях, имевших с ним дело. Он интересовался художественной литературой, много читал, любил природу, был несколько застенчив и молчалив в обществе. Свои качества и способности он определенно недооценивал. Долголетняя семейная жизнь его протекала вполне счастливо. В 1909 году Нестор Михайлович и Александра Егоровна отпраздновали свою золотую свадьбу, и только потеря дочери, умершей пяти лет от туберкулезного менингита, и старшего сына, погибшего от острого аппендицита, были тяжелыми событиями в их жизни. «В нашей семье, – написал дед, – никогда не было, по крайней мере на моей памяти, ссор, никогда не применялось никаких наказаний детей…»
Нестор Михайлович скончался в Москве в 1913 году в возрасте 86 лет. За четыре года до этого, 26 октября 1909 года, он написал письмо-завещание, в котором распорядился о своих похоронах и о своем небольшом капитале, и закончил его следующими словами: «…Простите меня по-христиански, молитесь за мою грешную душу, поминайте или хоть вспоминайте меня, живите дружно и любите друг друга, как любил Вас Нестор Сперанский». Похоронен он был, согласно его пожеланию, на Дорогомиловском кладбище, на месте которого сейчас находится гостиница «Украина».
Георгий Несторович Сперанский – детский врач
У моего деда Георгия Нестеровича была большая семья, но мне единственному из шести его внуков и внучек посчастливилось прожить вместе с ним более 30 лет, от моего рождения в 1937 году до его смерти в 1969-м. Я хорошо его помню до сих пор, что позволило мне написать о нем книгу, которую я назвал «Главный детский доктор»[43]. Она была опубликована в 2009 году, к сожалению, очень небольшим тиражом и в продажу не поступала. В предисловии к этой книге директор Института педиатрии РАМН, носящего имя Г.Н. Сперанского, академик Российской академии медицинских наук, профессор А.А. Баранов назвал моего деда одним из исполинов отечественной педиатрии