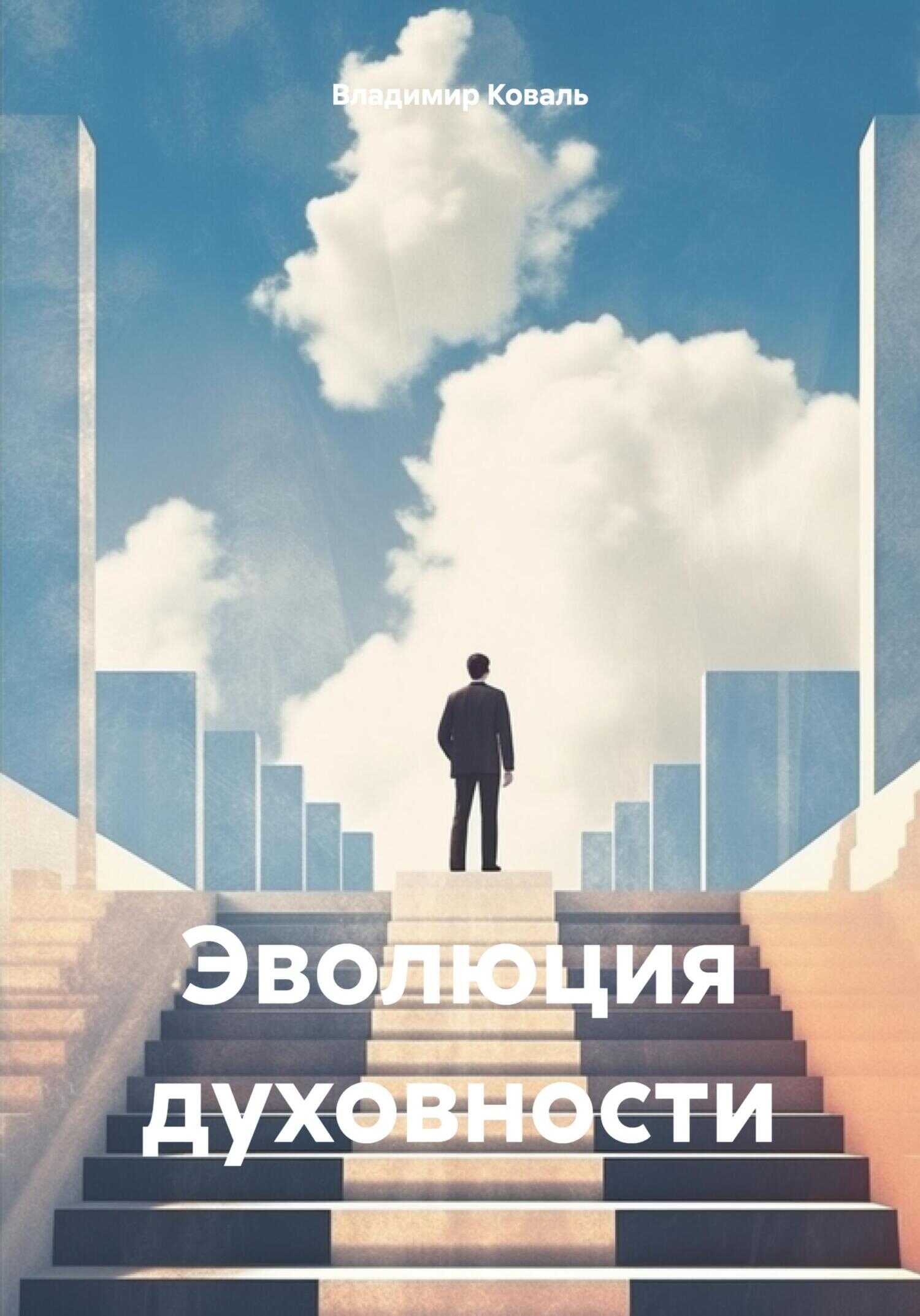выпустило альманах (1912), провело две выставки (Мюнхен – Кельн – Берлин – Бремен – Хаген – Цюрих – Франкфурт-на-Майне, 1911–1912 гг. и Мюнхен, 1912).
Теоретические воззрения М.В. Веревкиной были озвучены на конференции «Ассоциации художников» в г. Вильно. М.В. Веревкина выступила с докладом-беседой: «О символе, знаке и его значении в мистическом искусстве», в котором она доказывала право на существование и самостоятельность художественного языка своего искусства и искусства своих мюнхенских друзей. Текст доклада декларирует право на реализацию мистических идей в национальном русском искусстве: «Я верю, чтобы за мной верили и другие, что кроме суетного мира преходящих форм есть мир незыблемого покоя истины, мир примирений, куда тянет меня всей душой. Это мое чувство и моя вера, моя художественная суть, мое Я художника. Я долго искала язык, на котором я могла бы говорить обо всем этом, на котором я могла бы выразить собственную веру. Сквозь все извилины принятого ложного художественного воспитания, сквозь реализм моего учителя Репина и шик моих заграничных учителей, сквозь свою личную талантливость, столь враждебную исканию чистых идеалов искусства, добралась я наконец до сознания, что в душе моей, рядом с моей любовью и верой, – живут совершенно тождественные им линии и краски, что ближе всего всякой фотографии, ближе всякой аллегории, могут передать суть моего двойственного Я. С минуты этого сознания во мне проснулся настоящий художник: я перестала думать символом слова, который не может быть символом, а думаю исключительно символом линий и красок»186.
Позже идеи М.В. Веревкиной легли в основу трактата «О духовном в искусстве» В.В. Кандинского: «Цвет обладает внутренней значимостью, независимой от окружающего <…> рисунок всего лишь ограничение цвета <…> Цвет решает вопрос формы <…> В области цвета нужно постоянно держаться ближе к органической форме, чтобы не оказаться в области нереального. Чем интенсивнее по цвету впечатление, тем менее возможна реальная форма. Цвет разрушает существующую форму»187. Творческая и выставочная деятельность М.В. Веревкиной в «Новом мюнхенском объединении художников» стала начальным этапом в становлении нового искусства в Мюнхене.
Мотивы дороги и странничества в пейзажах М.В. Веревкиной
В период мюнхенских творческих поисков в символических образных картинах М.В. Веревкина иллюстрирует новые сюжеты, среди которых отдельным направлением следует выделить отражение мотива дороги и странничества. Живописный язык художника меняется, он отличается декоративностью, а истинное значение предметного содержания является преимущественно выражением собственных внутренних переживаний. Важнейшим аспектом в творчестве художника становится идея слияния миров внутреннего и внешнего.
Автор стремится выделить художественный образ как воплощение субъективного в воспроизведении действительности. В процессе интенсивной работы художник ищет возможность найти для себя средства для выражения новых измерений духовного, выходя за изобразительные рамки символизма. Подобное преодоление определенных стилистических внешних границ приводит к рождению индивидуального творческого метода Веревкиной, создавая синтез, в котором живопись экспрессионизируется, продолжая нести в своем внутреннем содержании скрытый философский подтекст.
Перед М.В. Веревкиной открывается собственная внутренняя «бездна» и внешний окружающий мир – «бездна без предела»188. Собственные мироощущения кажутся ей лишь поверхностными проявлениями личности, повторяющимся сюжетом в живописи становится дорога – символ жизненного пути, окруженного огромным пространством целого мира. «Для нас символизм дорог, – утверждал Эллис (Л.Л. Кобылинский), – более всего путь освобождения, неизбежно ведущий нас к живому единству воли и знания и к примату творчества над познанием. Этим он сближается с сокровенным ядром последних глубин мистических учений и великих религий»189.
Нередко возникающие сюжеты дороги и странничества, которые встречаются в живописи конца XIX в., к началу XX в. становятся частыми образами, вдохновляющими художников. Дорога объединяет «Перова, Саврасова, Левитана <…> «Пепел» Андрея Белого переполнен «блоковско-перовской» дорожной тоской, которая, разряжаясь в коде, переводит обыкновенное в трансцендентное <…> растворяется и он [путник] сам, и метафизическая Россия»190.
Художнику удалось найти изобразительный способ совмещения мотивов житейских сцен бытовой обыденности с философским аспектом жизненного пути и библейской темой странничества: «1 Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. / 2 Блаженны хранящие откровения Его, всем сердцем ищущие Его. / 3 Они не делают беззакония, ходят путями Его. / 4 Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. / 5 О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих!»191
В символистических картинах М.В. Веревкиной мюнхенского периода мы не сможем дать однозначного ответа на вопрос принадлежности изображения к определенному жанру, так как невозможно определить – жанровая это сцена или пейзаж. Художник ставит целью своей живописи изображение материального мира как средство, где главной задачей является отображение новой реальности. Изменение образного строя картины вслед за собой приводит к изменению изобразительной техники. М.В. Веревкина использует темперу, которую зачастую перемежает с тушью, цветными карандашами. В передаче изображения преобладает создание на плоскости двухмерного пространства, одухотворенного присутствием человека. По возникающим бесконечным дорогам в картинах М.В. Веревкиной идут странницы с посохами, крестьянки и прачки, женщины в черных одеждах, несущие за спиной узлы скарба, детей и корзины. Символическое значение подобных фигур, двигающихся по беспрерывному жизненному пути, варьируется от картины к картине, художник вкладывает в них различный смысл, меняющийся от одного цикла к другому, представая перед нами то воплощением одиночества, то надежды, то спокойствия или тревоги.
Первым пейзажем, в котором встречается изображение пути, является «Осень. Школа» [1907, фонд Марианны Веревкиной, Музей современного искусства, Аскона]. Сюжет картины прост – это невинная прогулка школьниц в осеннем парке. На фоне оранжевого зловещего заката мы видим темные силуэты нависающих над озером гор, из нижнего левого угла протянулась дорога, по которой идут «юные девочки из пансионата <…> маленькие впереди, старшие замыкают шествие. Белые носочки, черные платьица, желтые соломенные шляпки. Будто какая-то черная рептилия с желтым хребтом ползет на белых лапках вдоль серых домов»192. Диагональное движение рептилии преграждают четкие вертикали деревьев, создавая таким образом дополнительное напряжение. Вдалеке на берегу озера расположилась маленькая деревушка с возвышающейся колокольней церкви вдалеке, а на траве – простые незабудки. Художник наделяет каждый предмет в картине скрытым смыслом, что дает возможность придать загадочность композиции.
В пейзаже «Лунный свет» [1907, местонахождение неизвестно] М.В. Веревкина изображает побережье озера с лесным массивом. Сохраняя мотив дороги, художник изменяет направление движения идущего человека – теперь идущий персонаж обращен к зрителю. В процессе работы над картиной меняется ее композиционное решение: в предварительном эскизе [1907, фонд Марианны Веревкиной, Музей современного искусства, Аскона] М.В. Веревкина показывает лес с некоторого возвышения, что позволяет завысить линию горизонта.
В окончательном варианте художник наблюдает за перемещениями путника в ночи с высоты птичьего полета. Широкий угол обзора также дает возможность