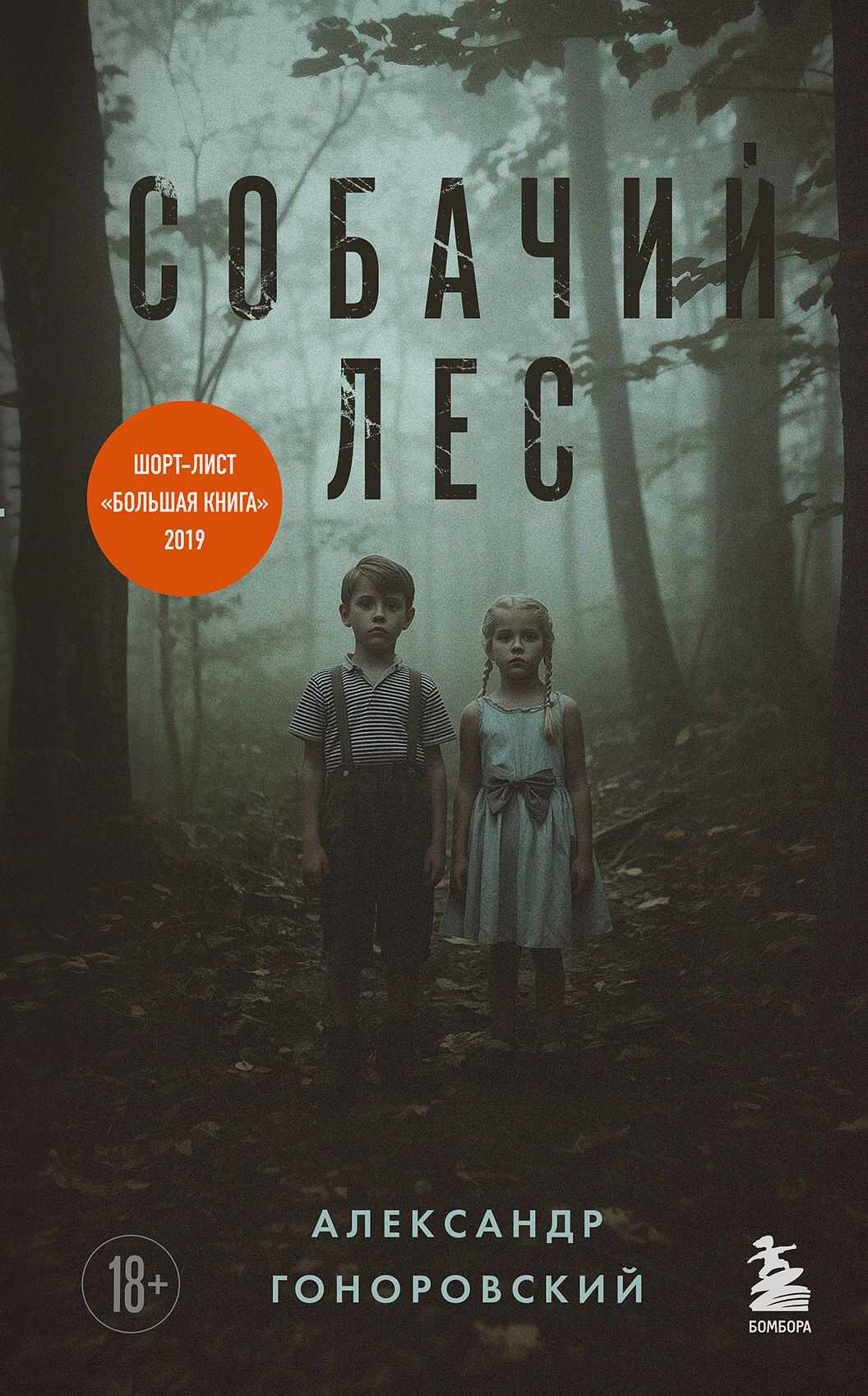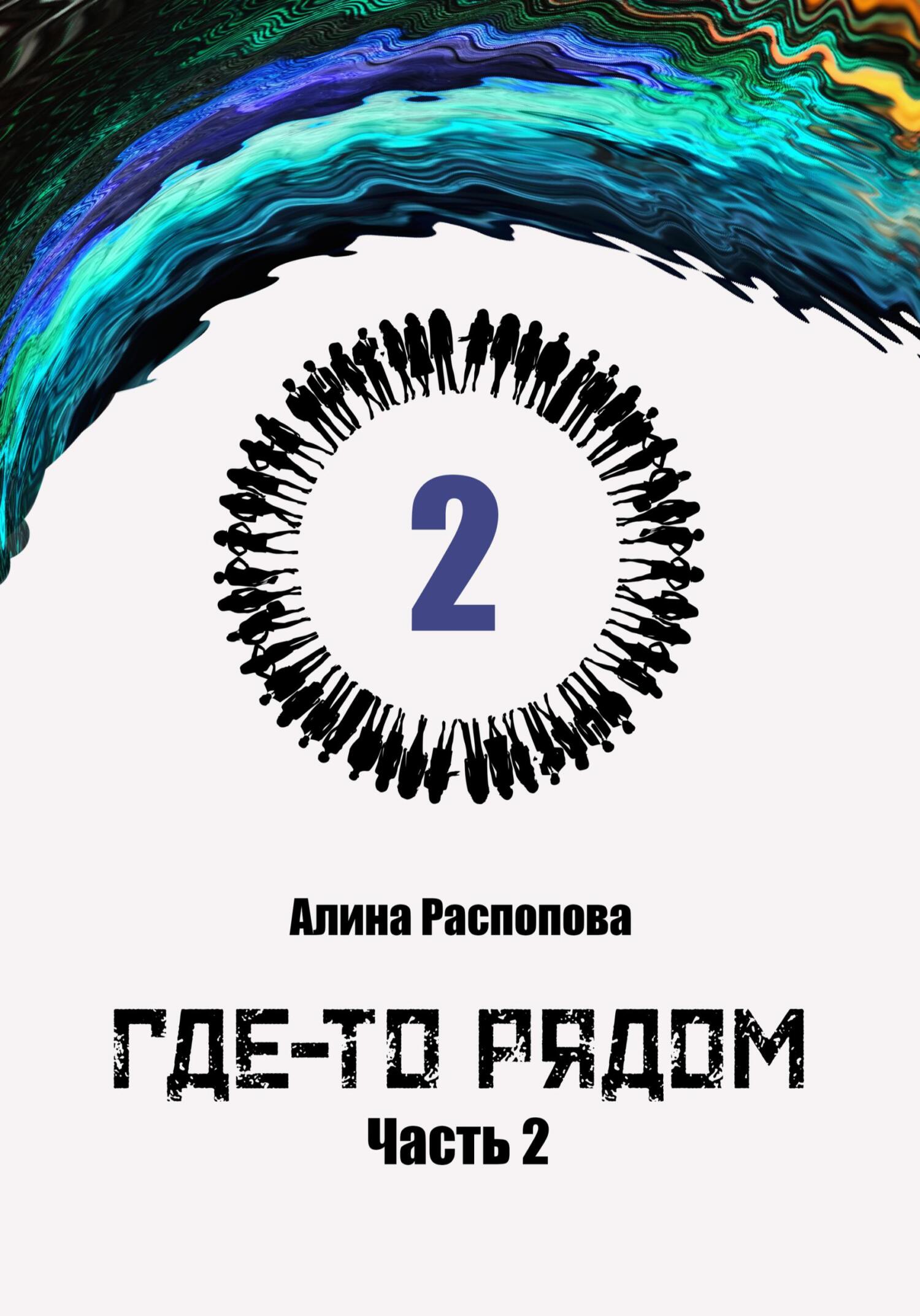чинарем выглядеть в глазах проходящей мимо толпы, в которой многие кричали маме свои поздравления, а мама к тому же и фотографировала папу со мною на закорках… Однако ж, несмотря на все эти переживания, спускаться на землю мне вовсе не хотелось, я все глядел и глядел поверх плывущих мимо голов.
А ноябрьские демонстрации всегда представлялись мне грязными, холодными, пьяными и кровавыми: в раннем-прераннем детстве, может в три или четыре годика, увидел я хмельное кровопролитие на демонстрации, и взрослые, увлеченные отвратным зрелищем, не успели закрыть мне глаза ладошкой, а может, им это и в голову не пришло, ведь они были убеждены, что я ничегошеньки не понимаю и никаких чувств в таком возрасте испытывать просто не могу, как не может их испытывать наша бедная киска Лиска.
Часть вторая
Базарные дни
1
На мое шестилетие, в середине того дождливого июня 1970 года, папа с любовью настраивал нашу громоздкую гордость – катушечный магнитофон с косой надписью «Комета», прилаживал микрофон. И говорил в него, что сегодня Саша дает свое первое в жизни интервью.
– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? – спрашивал папа в микрофон и тут же протягивал его мне.
– Я хочу стать пожарником, – нудно, заученно отвечал я, отстраняясь от микрофона.
А потом папа фотографировал меня и Катю своим фотоаппаратом «ФЭД-2».
– А ты меня не будешь обижать? – несколько раз спросила Катя, кривляясь перед микрофоном.
Странный вопрос! Я никогда не обижал ее. Воображает Катя, вот и все.
Пожарным я быть не хотел, ну то есть можно, конечно, все-таки это почти как летчиком… Но лучше летчиком, если уж не получится стать путешественником. А пожарным… Просто мимо бабушкиного дома с каким-то мертвящим визгом проносились иногда две-три пожарные машины, и я замирал от ужаса, заслышав этот загробный визг, сердце у меня колотилось и по затылку ползли морозные мурашки. И мои детские заявления, что, мол, «хочу стать пожарником», были попыткой доказать, что я не боюсь пожарной сирены.
А больше всего на свете хотел я стать путешественником! Бабушка хвалила меня за это, говорила:
– Хорошая профессия, повидать людей, кто как и где живет, и за это еще денег получить! Путешественники очень хорошо получают, Санёга. Их по телевизору показывают в «Клубе кинопутешествий».
А мама неприятно смеялась надо мной, она очень не любила, когда мы с Катей начинали мечтать неправильно:
– Ты еще скажи, что хочешь быть читателем книжек! Нет таких профессий: путешественник, читатель…
– А как же тот старый дядя с усами, который в «Клубе кинопутешествий» выступает? – стоял я на своем.
Вмешивался папа:
– Этот дядя, про которого ты говоришь, Санек, он журналист, а журналисты много путешествуют. Становись журналистом, как я! А? По стопам отца…
– И мамы! – добавляла мама.
Я знал, что в Вологде, куда послали маму и папу после университета, мама работала в газете «Красный Север», а папа – в тюремной газете, и он много летал по Северу на маленьких самолетах, которые называл «этажерками». Летал он по разным тюрьмам, и ему очень хорошо платили, больше, чем маме. И еще он привозил из этих поездок мясо, потому что начальники тюрем обязательно брали папу в лес на охоту, и они убивали лосей, кабанов или оленей. Вот здорово! Я тоже хотел так работать, но чтобы летать не только по северу, а еще и по югу, и везде-везде.
Конечно же, в честь моего дня рождения жарились макароны с тертым сыром – они всегда подавались на стол по праздникам, исключений не было, и никому из взрослых просто в голову бы не пришло готовить что-то другое, если только не ждали гостей, тогда – да, тогда могло быть что-то особенное. Нам с Катей мама приносила железные обливные мисочки, на дне моей были нарисованы белые грибы (эта мисочка жива по сей день), а на дне Катиной – белочка. Катю иногда так и звали дома – Белочка. А бабушка прибавляла: «Белочка-умелочка», потому что стихи про эту белочку-умелочку нравились бабушке больше всех остальных стихов, вместе взятых.
– Ах, какая белочка, белочка-умелочка! – повторяла бабушка с умиленьем.
Мы с Катей начинали спорить, у кого из нас меньше, никто не хотел, чтобы у него было больше. Появлялся папа и менял наши миски местами, чтобы мы не спорили, и мы тут же начинали просить вернуть каждому его мисочку. Потом папа открывал округлый, красный кожаный чемоданчик, это ведь на самом деле был не чемоданчик, а проигрыватель «Юбилейный», ставил пластинку. Я по песне узнавал, что это Эмиль Горовец, потому что так говорил папа.
И вот… Внезапно, без предупреждения, взвывает голос протяжно, с тоской и надрывом: «Все проходит! Все не вечно…» И веришь ему, понимаешь, что поет этот Горовец правду. Все так и есть на самом деле, а не только в песне. Именно вот так оно есть и будет, как о том стонет из проигрывателя надломленный, срывающийся от волнения голос. Да-да, жизнь проходит, и в этот самый момент мне уже как будто бы и шесть, и шестьдесят одновременно, и я знаю наперед, что когда-то и сам я буду так же с тоскою смотреть в окно на проходящую мимо жизнь, как сейчас смотрит в окошко нашей избы мой папа… Она уже и сейчас, жизнь моя, проходит мимо – шаркающей походкой старух, семенящих мимо «бассейны» в церковь, нетвердыми зигзагами дяди Вити, который «пишет мыслéте» вдоль по Ленинской… Или уже ночью – приплясывающими ногами «расхлябанных» битлов, трындящих на гитаре и тискающих девушек прямо на ходу, а те взвизгивают в положенном месте – тоже ведь искусство, между прочим…
И тоска моя вовсе даже не только от понимания обреченности и безвариантности этой жизни, а от того, что где-то есть другая, далекая жизнь, в которой меня нет, но о которой я почему-то знаю совершенно точно. Чувствую безошибочно. Как деревце, еще малым прутиком пересаженное на голый островок, чувствует там, за морями, что рощица его, от которой он оторван, желтеет и сбрасывает листву; и, следуя памяти родства, одинокое деревце тоже осыпается, облетает от ветра на своем далеком островке. Так и я чувствовал ту далекую жизнь. Там стены из черного ночного стекла, там люстры свисают виноградными гроздями, там ковровые дорожки на мраморных лестницах, и по этим лестницам взбегает обыденно Эмиль Горовец, здоровается с Покрассом и Ардовым, а учтивые женщины в форменных тужурках приглашают их в просторный зал – пить колючее шампанское… Да-да, я, шестилетний, уже знал, вернее – уверен был, что знаю, – вкус шампанского, что оно – именно колючее, гораздо больше, чем лимонад «Буратино»!
И в том зале под яркими люстрами нет места маме и папе. Их туда не зовут. А меня? Вот бы одним махом преодолеть долгие годы тягот и учебы, простуд и «стреляющих» ушей, а еще – пыточных, сдавливающих ступни валенок… Попасть бы туда, под люстры, сразу, уже своим человеком, знакомым со всеми людьми из той далекой жизни!
«Все проходит», – снова голосит протяжно Горовец.
– Ишь, душу выматывает, жилы тянет, – бормочет бабушка возле печки, украдкой. – Нет бы чего-нито дельное спеть! Жизнь – она и есть жизнь, чего петь-то про нее…
Значит, бабушка тоже сейчас грустит о проходящей жизни, только ей не хочется грустить лишний раз, под принудкой, по воле невидимого и неведомого певца.
А тем временем Эмиль Горовец уже пел весело и беззаботно: «Люблю я макароны… па-па-ба-па… посыплю тертым сыром и запью вином!» Я любил эту песню, а макароны – больше всего на свете, и удивлялся, что Горовец тоже их любит – ведь он человек из далекой жизни, разве там есть жареные макароны с тертым сыром? Да еще такие же, как у нас? Наверное, там все же другие макароны и другой сыр. Там ведь ничего нет такого же, как у нас, там все другое, ведь это – другая жизнь.
А папа всегда подпевал, и я слышал: «Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят…»
Мама вздыхала:
– Это меня они погубят, вон какая толстая стала.
И я удивлялся, зачем мама говорит неправду – она же вовсе не толстая. И все это видят, и никого обмануть у мамы не получится. Папа тоже так считал и всячески отговаривал маму говорить про себя, что она толстая.
Еще этот Эмиль Горовец пел песню,