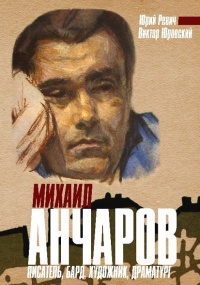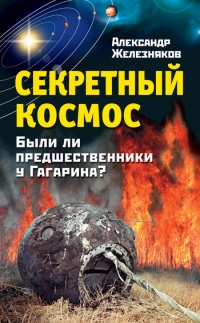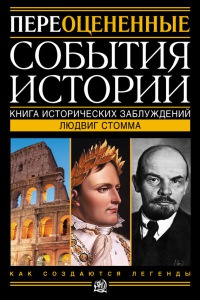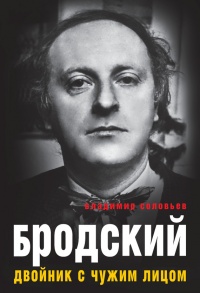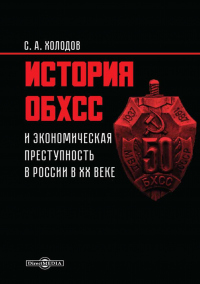Сейчас в зажиточные никто не лезет, а все лезут в бедняки, потому что в деревне это стало выгоднее
Большевики и прочие русские марксисты полагали, что крестьянство разделено (или, по крайней мере, находится в процессе разделения) на классы: «кулаки» эксплуатируют «бедняков», еще не дифференцировавшиеся «середняки» занимают промежуточную социальную территорию между двумя полюсами. Такой взгляд на крестьянство и его развитие оспаривался в 1920-е гг. неонародниками вроде А. В. Чаянова, и с тех пор его подвергали сомнению многие историки и социологи. В любом случае он вряд ли применим к российскому крестьянству эпохи нэпа, хотя бы из-за уравнительного эффекта передела земли в 1917-1918 годах.
Тем не менее какие-то формы экономической и социально-культурной дифференциации российского крестьянства в 1920-е гг. существовали. Одни крестьяне полностью зависели от обработки своего надела, другие имели важные дополнительные занятия (торговля, ремесла, сезонный отход на заработки — на шахты, заводы, в коммерческое сельское хозяйство) и благодаря многим из этих занятий вступали в контакт с городом. В частности, вместе с отходниками в сельское общество издавна проникали городские вещи и нравы.
Большевики склонны были толковать любой конфликт в крестьянской среде как классовый — между эксплуататорами-кулаками и эксплуатируемыми бедняками. Насчет классовой подоплеки можно поспорить, но разного рода конфликты действительно имели место. В годы Гражданской войны, когда отходникам и крестьянам-рабочим пришлось вернуться в деревню и кормиться со своей земли, часто не имея необходимого для этого скота и инвентаря, между новоприбывшими и старожилами возникало много противоречий. Вероятно, пришельцы, вооруженные опытом, навыками и грамотностью, приобретенными в городе, не проявляли желания считаться со старейшинами общины. К примеру, когда в Саратовской области в середине 1920-х гг. сократился отход и, следовательно, уменьшилась возможность заработка на стороне, бывшие отходники, «бедняки» с точки зрения способности жить исключительно сельским хозяйством, «были вынуждены остаться в деревне и вступили в острый конфликт с кулацкой верхушкой».
Разногласия возникали также в силу различий между поколениями, зачастую в связи с отходом, в который обычно отправлялись молодые крестьянские парни, или возвращением молодежи из армии. В Тверской области, например, где миграция и отход давно стали одним из главных факторов крестьянской жизни, между отцами и детьми существовал серьезный культурный конфликт. Молодые тверские крестьяне стремились в 1920-е гг. одеваться по «моде» Гражданской войны (настоящие или самодельные красноармейские гимнастерки, широкие кожаные ремни, буденновки), крестьянских девушек привлекали современные городские платья, вызывавшие нарекания у их родителей.
Можно предположить, что молодые крестьяне, познакомившиеся на заработках в городе или на военной службе с современными городскими нравами, были более других расположены к советской власти[44]. Комсомол, охватывавший молодежный контингент, оказался одним из наиболее успешных проводников советских ценностей в деревне. Крестьянские парни, отслужившие в Красной армии, по-видимому, играли не менее важную роль. В 1927 г. более половины председателей сельсоветов в России составляли бывшие красноармейцы.
Хотя большевики, называя своих деревенских сторонников бедняками, а противников — кулаками, грубо упрощали ситуацию, нельзя сказать, что применяемые ими классовые категории были совершенно бессмысленны. Слова «бедняк» и «кулак» в деревне давно имели смысл, а в 1920-е гг. благодаря большевикам приобрели практическое значение. После революции определения «бедняк» и «кулак» стали играть новую роль, поскольку большевики вознаграждали тех, кого считали бедняками, и карали тех, кого относили к кулакам.