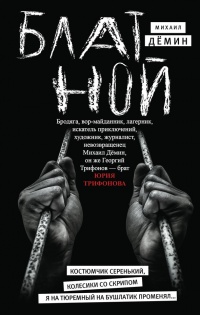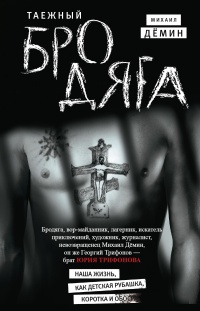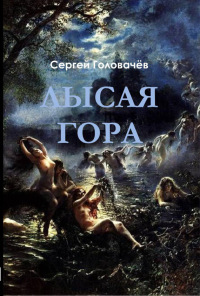Ты не стой на льду — лед провалится. Не люби вора — вор завалится.[12] Вор завалится, будет чалиться,[13] На свиданку ходить не понравится… А я любила вора и любить буду. Я стояла на льду и стоять буду. Эх, дождь идет — ураган будет! А родится сын — он жиган будет…
И Ванька Жид, вскочив, плеснул в ладоши. И крикнул, захлебываясь от хмельного восторга:
— Давай, Чума! Топни ножкой! Спляши! Как встарь, как бывало. — Он потащил меня за рукав: — Ну?
Мне в этот момент — вы сами понимаете — было вовсе не до плясок. И я отказался, сославшись на нездоровье.
— Жаль, — пожал он плечами. И присев на краешек стола, потянулся к бутылке. — Тогда продолжим…
Ландыш поглядел на нас обоих. И спросил, подсаживаясь к Жиду:
— Вы что, давно знакомы?
— Да уж лет шесть, не меньше, — ответил, опорожнив стопку, Иван.
— Где ж это вы снюхались?
— Там, где девяносто девять плачут, а один смеется, — сказал Иван. — Понял? Мы с ним чалились вместе. Сучню резали, понял?
— Ах, так, — протянул Ландыш. И потом, обращаясь ко мне: — Что ж ты, голубок, кривлялся? Почему сразу не сказал? Ты же, оказывается, наш!
«Только не твой, — подумал я, — только не твой…» И я поднялся, потягиваясь. Потер ладонью лоб.
— Что-то мне, ребята, нехорошо, — проговорил я протяжно. — Голова болит… Тошно… Или выпил много? Пойду-ка подышу свежим воздухом.
И затем уже в дверях, вполоборота:
— Ванька, — позвал я, — пройдемся, что ли? Тут от духоты угоришь…
Ландыш проводил меня подозрительным взглядом. Но ничего не сказал. Я ведь уходил не один, а с известным ему человеком!
* * *
Выйдя, мы свернули на Абаканский тракт. И некоторое время шагали молча. Скрипел под сапогами гравий. Светились папироски во мгле. Ночь обволакивала нас прохладой и запахами спелых июльских трав.
А в вышине, в лиловой бездне — среди обрывков летящих туч — мерцал оранжевый осколок луны. Он был косой и чуть вогнутый и напоминал наклоненную чашу.
Существует примета: если из такой «чаши» вода, по идее, может легко пролиться, то назавтра следует ожидать скверной погоды.
И погода уже начинала портиться. Где-то за Енисеем вспыхивали и гасли — словно бы подмигивали — зеленоватые зарницы и лениво, тяжело шевелился гром. Там уже начинался дождь, и судя по всему, его несло в нашу сторону.
«Эх, дождь идет, — вспомнилось мне, — ураган будет…»
— Так как же ты все-таки попал сюда? Или снова решил развязать узелок?
— Да нет, все вышло случайно, из-за моей глупости… Понимаешь, я дал Ландышу клубную машину. А он на ней провернул одно дело. Ты сам, наверное, слышал, — он хвастал за столом… Ну, и вот теперь он меня шантажирует, хочет, чтоб я с ним работал. Предлагает долю…
— А ты ее не берешь, не хочешь? — усмехнулся Иван.
— Конечно.
— Ну и дурак. От грошей отказываться зачем? Раз уж так получилось, бери, хватай.
— Нет, — сказал я, — не хочу! И не только потому, что я завязал… Со стукачами я как-то не привык общаться. Я человек брезгливый.
— Постой, — сказал Иван, — погоди!
Он ухватил меня за отворот пиджака и рывком подтянул к себе. Несмотря на то, что он славился, как тонкий игрок, руки у него были широкие, короткопалые, мужицкие — все в узлах жестких жил. И держа меня, как в тисках, он спросил, сужая глаза:
— Ты понимаешь, что говоришь? Это, Чума, не шутки. Поберегись! Такими словами не балуются, за них отвечают.
— Так я готов ответить.
— Тогда выкладывай! Что тебе известно?
— Много кое-чего, — сказал я, высвобождаясь из тисков. — Много…
И я медленно, стараясь не упустить ни одной детали, начал рассказывать ему обо всем, что я узнал и что понял… Он слушал меня молча, не перебивая. И потом проговорил:
— Да, Каин поторопился. Казнил Грача и оборвал все ниточки. А ведь мог бы все узнать — еще год назад. Мог бы все спокойно выяснить… Но он же спокойно не умеет. Вечно пенится, психует, марафетчик чертов.