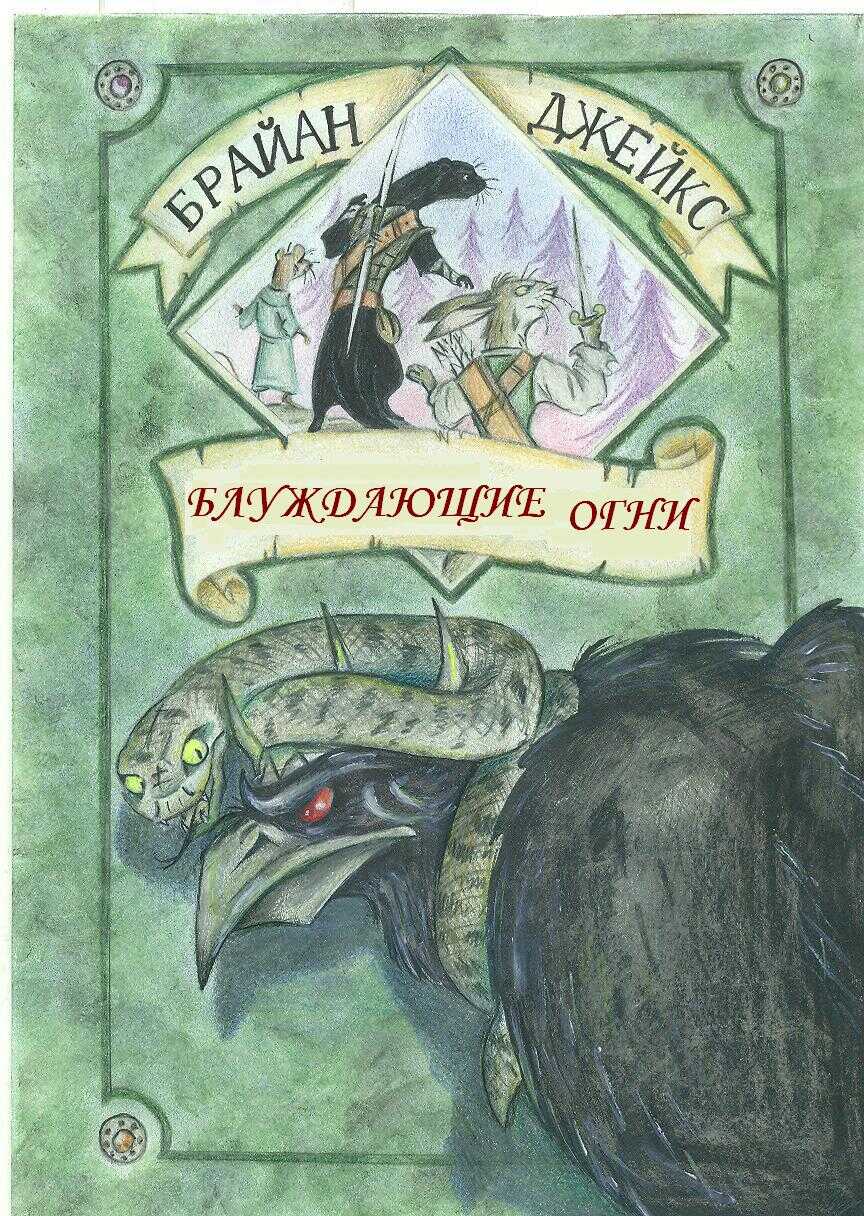есть тепло, и он в Верочку влюблён.
«Умри, но не дай поцелуя без любви!» – фраза из романа вошла в разговорный русский язык и стала чем-то вроде пословицы, которую обычно произносят с насмешливой улыбкой или с циничным хохотом. Смейтесь, дураки, потому что ваш поверхностный цинизм пустяк по сравнению с жёсткой издёвкой Чернышевского. У него эту фразу говорит содержанка и бывшая проститутка.
Эта издёвка не часто, но проскальзывает и просвечивает в романе, словно вдруг из-за спин действующих лиц выглядывает молодой длинноволосый господин в сером пальто и в золотых очках и отпускает замечания, которые уничтожают не столько действующих лиц, сколько человечество с его героями. «Но если я знаю, то мало ли чего-то знаю такого, чего тебе, проницательный читатель, во веки веков не узнать»[117]. С серьёзным видом он вдруг заявляет, что алкоголичка Марья Алексеевна, мать Веры, то же самое, что Наполеон после битвы при Ватерлоо; и само внезапное появление маршала Груши и маркиза Лафайета посреди рассказа о семейном дельце отдаёт ледяной и злой насмешкой автора романа над пошлостью, корыстью и глупостью жизни.
Нет для него авторитетов, и те, кого человечество считает героями, для него не герои. О Наполеоне он очень непочтительно говорит, что он тащил сам себя за нос – и дотащил до острова Эльбы, а потом даже и до Святой Елены. Вот так умелец!
«Смесь разной гадости с разной дрянью», – так он говорит о том, что происходит в мужчине, добивающемся женщины.
«Из-под маски порядочного человека… высовывалось длинное ослиное ухо».
«А если у всякого человека чёрте знает что на уме, то у такого умного человека и подавно».
«Одно, впрочем, натурально – допотопному миру иметь допотопное население».
В сцене, где Вера Павловна запрещает целовать себе руку, потому что мужчина, целующий руку женщины, унижает её, ибо не считает себе равной – заложен весь последующий радикальный феминизм. Тут уже угадываются они все – Эмма Голдман в пенсне на шнурке и с банкой динамита, и Сюзи Кватро в кожаной куртке и с бас-гитарой. Через столетие перекидываются мостики, соединяя очкастого длинноволосого русского нигилиста и обросших американцев протестных демонстраций. «Только до двадцати пяти лет человек может сохранять честный образ мысли» – это из романа Чернышевского 1863 года. «Не верь никому старше тридцати» – это Джек Уайнберг в 1964 году.
Рукопись романа «Что делать?», листы которого были отмечены печатями цензуры, Некрасов повёз в типографию и по дороге потерял. Как она слетела с его колен, когда он ехал на дрожках – непонятно. Это происшествие повергло и без того издёрганного, измученного и страдающего Некрасова в отчаяние и ужас. Потерять рукопись, которую Чернышевский написал в тюрьме, потерять слово, написанное узником и доставленное ему для сбережения! Он дал объявление в «Полицейские ведомости» об утере рукописи, обещал 300 рублей тому, кто её вернёт, и, страдая и маясь, в ужасных фантазиях видел рукопись в мелочной лавке, где её листы пустили на обёртку для селёдки. Если бы не бедный чиновник, отец шести детей, который нашёл рукопись на улице и принёс Некрасову – в русской литературе не было бы романа «Что делать?». Имя чиновника осталось неизвестным.
По следам героини «Что делать?» Веры Павловны, создавшей швейную мастерскую на основах справедливости и добра, пошли многие люди, верившие в кооперацию людей без эксплуатации, в добровольный совместный труд и честную жизнь. Эти попытки были растоптаны, уничтожены, а следы их стёрты из истории, но всё-таки кое-что сохранилось. Например, в биографии Сергея Фёдоровича Рыбина-Луговского указано, что он в начале двадцатых годов двадцатого века создал хлебопекарную артель «Трудовая вольность», позднее переименованную в «Муравейник» – дело, поставленное на тех же началах, что швейные мастерские Веры Павловны. Эсер Рыбин наверняка читал книгу Чернышевского и крепко держал в памяти его завет. Сначала это были две пекарни с магазином, а потом уже семь пекарен, девятнадцать магазинов, кондитерская фабрика. Работало в артели 393 человека. «При артели существовали бесплатная столовая, парикмахерская, школа, библиотека, театральный кружок, покупались билеты в ложи театров, постоянно отчислялись деньги в поддержку политзаключённых, находящихся в тюрьмах, лагерях и ссылках». За исключением помощи политзаключённым – это точный слепок с того, что было принято у Веры Павловны в её мастерских и что Чернышевский считал началом новой жизни. В 1928 году артель закрыли, Рыбина и артельщиков арестовали. В 1937 году Рыбину припомнили его эсеровское прошлое и артель свободного труда – расстреляли.
Гражданская казнь Чернышевского совершалась под мелким моросящим дождём на Конной площади в Санкт-Петербурге. Лишали гражданских прав того, кто был гражданин по призванию и убеждению и больше других за гражданские права боролся. Все, кто видели его на эшафоте, не заметили волнения в его лице. Под дождём, стоя у чёрного столба, он иногда снимал с лица очки в золотой оправе и пальцами протирал стёкла. А так – стоял спокойно и смотрел сверху на ряды войска, на конных и на пеших, за спинами которых колыхалась толпа. Когда его увозили в полицейской карете, девушки с извозчика бросили ему букет цветов, извозчика тут же остановили и девушек забрали в отделение.
В Тобольской тюрьме он сказал знакомому политзаключённому: «Как для журналиста, эта ссылка для меня прямо-таки полезна: она увеличивает в публике мою известность; выходит – особого рода реклама»[118]. Не мог представить, что его законопатят в страшную дыру, в одиночество, в молчание на двадцать лет.
В тюрьме Александровского завода он ходил по двору в чёрном халате на меху и в валенках и громким голосом пел греческие гекзаметры. Если его кто-то замечал за этим странным занятием – смущался. К принудительным работам узников привлекали редко, Чернышевского никогда. Были ещё домашние работы – принести ведро воды, почистить картошку, истопить печку – но и к этим работам заключённые его никогда не привлекали, из уважения к нему. Но он поблажек не хотел и с ножом в руках упорно присоединялся к чистящим картошку. В разговорах между собой они его называли «стержень». Стержень добродетели, стержень достоинства, стержень ума.
Был он сдержан и никому не открывал душу. Никто во все эти длинные годы ни разу не видел его растерянным, подавленным. Только потом, много лет спустя, после двадцати лет каторги и ссылки, вспоминая, как его привезли в Акатуй, сказал: «Кого только там не было: поляки, мечтавшие о восстановлении своей Речи Посполитой, итальянцы-гарибальдийцы, приехавшие помогать полякам, наши каракозовцы!.. И все – народ хороший, но все – зелёная молодежь. Одному мне под пятьдесят. Оглянулся я на себя и говорю: ах, старый дурак, куда тебя занесло. Ну, и стыдно стало…»[119]
Стыдно жизни, проходящей впустую под бесконечным блёклым небом, стыдно огромных знаний, которые память хранит – ни для чего, ни для кого, стыдно перед Ольгой Сократовной, которая там, на бесконечном расстоянии, в России, должна зарабатывать шитьём и штопкой…
Потом из Александровского завода его загнали ещё дальше, в Вилюйск. Вилюйск – это пятнадцать домов, церковь и тюрьма за частоколом. Других заключённых, кроме него, там не было. Из Иркутска для надзора над Чернышевским посылались жандармы. Раз в год их меняли. Начальник иркутского жандармского управления Янковский рассказывал, что «жандармские унтер-офицеры, возвращавшиеся в Иркутск по отбытии годичной службы при остроге, оказывались заметно сообразительнее и развитее, чем были до командировки в Вилюйск». И тут, значит, Чернышевский поработал… Но для охраны особо опасного государственного преступника просто жандарма было мало, с ним семь человек казаков и два урядника. Но узник ведь тоже был не один – у него маленькая собачка, он её приручил и с ней гулял.
Суд, которым судили Чернышевского, заранее знал, к чему его приговорит. Это был прообраз всех последующих судов такого рода – сколько их в истории России и СССР! Обвинение было построено исключительно на показаниях Костомарова и Яковлева, получавших деньги от Третьего отделения. Это знали и члены следственной комиссии, и Чернышевский, и студенты, не побоявшиеся написать и подписать письмо, в котором приводили пьяные разговоры Яковлева, где он саморазоблачался как платный доносчик. Письмо равнодушно подшили к делу, на дело оно не повлияло. Решили изъять Чернышевского из жизни – и изъяли. Но как же обычно, рутинно совершается зло. «Когда меня к каторге присуждали, старички сенаторы в перерыве приходили ко мне и, сидя рядом со мной на лавочке, разговаривали»