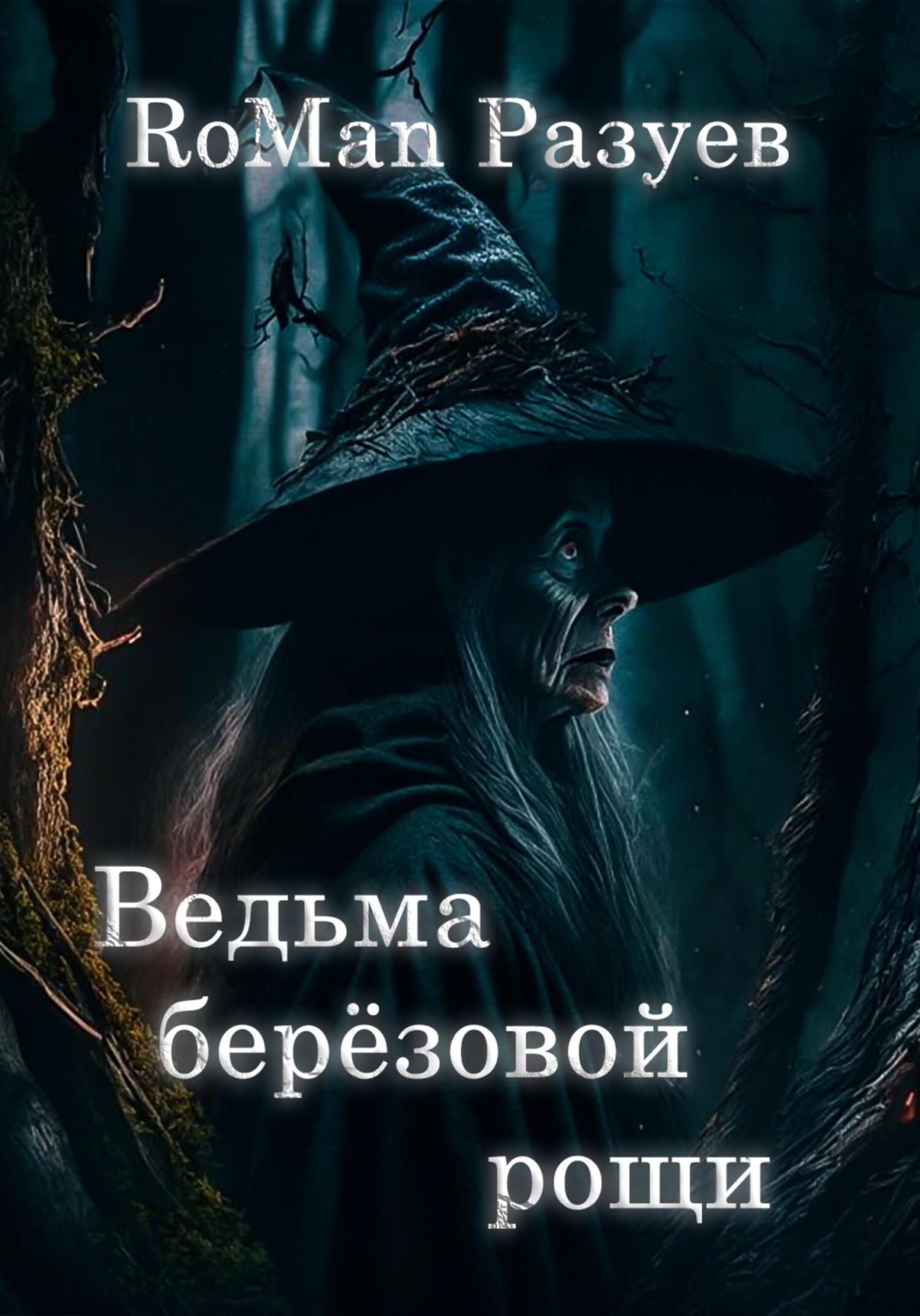небо в сочетании счастливом,
Обняв ее, ликует и горит.
Из облаков изваянные розы
Свиваются, волнуются и вдруг,
Меняя очертания и позы,
Уносятся на запад и на юг.
И влага, зацелованная ими,
Как девушка в вечернем полусне,
Едва колеблет волнами своими,
Еще не упоенными вполне.
Она еще как будто негодует
И слабо отстраняется, но ей
Уже сквозь сон предчувствие рисует
Восторг и пламя августовских дней.
1957
Когда бы я недвижным трупом
Когда бы я недвижным трупом
Лежал, устав от бытия,—
Людским страстям, простым и грубым,
Уж неподвластен был бы я.
Я был бы только горстью глины,
Я превратился бы в сосуд,
Который девушки долины
Порой к источнику несут.
К людским прислушиваясь тайнам
И к перекличке вешних птиц,
Меж ними был бы я случайным
Соединением частиц.
Но и тогда, во тьме кромешной,
С самим собой наедине,
Я пел бы песню жизни грешной
И призывал ее во сне.
1957
Снежный человек
Говорят, что в Гималаях где-то,
Выше храмов и монастырей,
Он живет, неведомый для света,
Первобытный выкормыш зверей.
Безмятежный, белый и косматый,
Он порой спускается с высот,
И танцует, словно бесноватый,
И в снежки играет у ворот.
Но когда буддийские монахи
Со стены завоют на трубе,
Он бежит в смятении и страхе
В горное убежище к себе.
Если эти россказни – не бредни,
Значит, в наш всеведающий век
Существует все-таки последний
Полузверь и получеловек.
Ум его, как видно, не обширен,
И приют заоблачный суров,
И ни школ, ни пагод, ни кумирен
Не имеет этот зверолов.
В горные упрятан катакомбы,
Он и знать не знает, что под ним
Громоздятся атомные бомбы,
Верные хозяевам своим.
Никогда их тайны не откроет
Гималайский этот троглодит,
Даже если, словно астероид,
Весь пылая, в бездну полетит.
Но пока над свежими следами
Ламы причитают и поют,
И пока, расставленные в храме,
Барабаны бешеные бьют,
И пока тысячелетний Будда
Ворожит над собственным пупом,
Он себя сравнительно не худо
Чувствует в убежище своем.
Там, наверно, горного оленя
Он свежует около ключа
И из слов одни местоименья
Произносит, громко хохоча.
1957
Стирка белья
В стороне от шоссейной дороги,
В городишке из хаток и лип,
Хорошо постоять на пороге
И послушать колодезный скрип.
Здесь, среди голубей и голубок,
Меж амбаров и мусорных куч,
Бьются по ветру тысячи юбок,
Шароваров, рубах и онуч.
Отдыхая от потного тела
Домотканой основой холста,
Здесь с монгольского ига висела
Этих русских одежд пестрота.
И виднелись на ней отпечатки
Человеческих выпуклых тел,
Повторяя в живом беспорядке,
Кто и как в них лежал и сидел.
Я сегодня в сообществе прачек,
Благодетельниц здешних мужей.
Эти люди не давят лежачих
И голодных не гонят взашей.
Натрудив вековые мозоли,
Побелевшие в мыльной воде,
Здесь не думают о хлебосолье,
Но зато не бросают в беде.
Благо тем, кто смятенную душу
Здесь омоет до самого дна,
Чтобы вновь из корыта на сушу
Афродитою вышла она!
1957
Гомборский лес
В Гомборском лесу на границе Кахети
Раскинулась осень. Какой бутафор
Устроил такие поминки о лете
И киноварь с охрой на листья растер?
Меж кленом и буком ютился шиповник,
Был клен в озаренье и в зареве бук,
И каждый из них оказался виновник
Моих откровений, восторгов и мук.
В кизиловой чаще кровавые жилы
Топорщил кустарник. За чащей вдали
Рядами стояли дубы-старожилы
И тоже к себе, как умели, влекли.
Здесь осень сумела такие пассажи
Наляпать из охры, огня и белил,
Что дуб бушевал, как Рембрандт в Эрмитаже,
А клен, как Мурильо, на крыльях парил.
Я лег на поляне, украшенной дубом,
Я весь растворился в пыланье огня.
Подобно бесчисленным арфам и трубам,
Кусты расступились и скрыли меня.
Я сделался нервной системой растений,
Я стал размышлением каменных скал
И опыт осенних моих наблюдений
Отдать человечеству вновь пожелал.
С тех пор мне собратьями сделались горы,
И нет мне покоя, когда на трубе
Поют в сентябре золотые Гомборы,
И гонят в просторы, и манят к себе.
1957
Венеция
Покуда на солнце не жарко
И город доступен ветрам,
Войдем по ступеням Сан-Марко
В его перламутровый храм.
Когда-то, ограбив полмира,
Свозили сюда корабли
Из золота, перла, порфира
Различные дива земли.
Покинув собор Соломона,
Египет и пышный Царьград,
С тех пор за колонной колонна
На цоколях этих стоят.
И точно в большие литавры,
Считая теченье минут,
Над ними железные мавры
В торжественный колокол бьют.
И лев на столбе из гранита
Глядит, распростерший крыла,
И черная книга, раскрыта,
Под лапой его замерла.
Молчит громоносная книга,
Владычица древних морей.
Столица, темна и двулика,
Молчит, уподобившись ей.
Лишь голуби мечутся тучей,
Да толпы чужих заправил
Ленивой